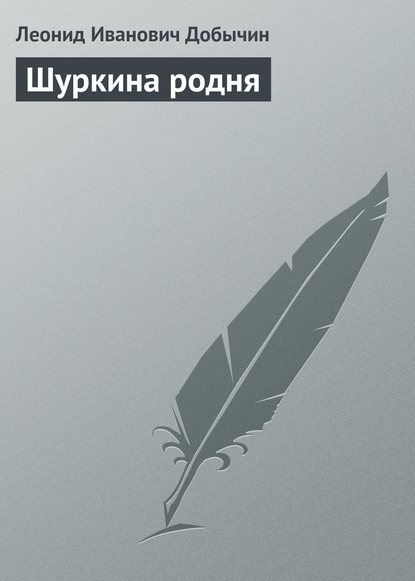По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Шуркина родня
Автор
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И правда, – согласилась мать.
– А гроб кого попросим сделать? – встрепенулась она. – Может, Аверьян сколотит?
– Да, – ответил Шурка и сам сбегал к Аверьяну.
– Ладно, – сказал он и вечером явился с инструментами.
Он сделал гроб из досок, оторванных от сеновала, и из планок от щитов, которые были расставлены вдоль «ветки», чтобы защищать ее от снега. Шурка натаскал их, когда не было луны на небе.
Подметя, Авдотья бросила в печь стружки. Аверьян помог ей уложить жилицу в сделанный им гроб и вытер руки о штаны.
– Ну, очень вам обязана, – сказала ему, вежливо раскланиваясь с ним, Авдотья, когда он надел пальто и шапку.
– Не за что, – ответил он. – Я столько лет жил в вашем доме, и вы были мне как мать.
– Ах, что вы, – возразила она.
Утром, приведя с базара мужика с дровнями и поставив на них гроб, она пошла за ним с детьми, торжественная, и похоронила свою мертвую жилицу без попов.
– Не знаю, – говорила она встречным, – по какой религии она была прописана.
С холстом и с пестренькими ситчиками, оказавшимися в сундуке жилицы и в ее зеленом ящичке, Авдотья принялась опять за дело.
Мужики ей навозили дров. Муки она купила у Суконкина. Он торговал теперь без вывески и отпускал товар у себя в кухне. Иногда дверь в комнату была полуоткрыта, и Авдотья видела в щель Ольгу, вытирающую тряпкой стулья или шьющую, надев очки, или читающую книгу.
Ольге было восемнадцать лет, она была бесцветная, беловолосая и тощая, и, глядя на нее, Авдотья усмехалась.
Она снова пекла хлеб и пироги и продавала их на станции, а Шурка помогал ей. Поезда ходили не по расписанию, и они сидели с утра до ночи и ждали. Вдруг являлся воинский, товар весь раскупали, и тогда Авдотья отправляла Шурку притащить еще.
С Егоркой он теперь встречался редко, и ему не так хотелось теперь сделаться разбойником, как стать хорошим спекулянтом или перевозчиком и продавцом беспошлинного заграничного товара: все хвалили это дело и считали, что оно уж очень прибыльное.
Его шуба, сшитая когда-то Александрычем, была ему уже мала, и из брезента, оказавшегося в сундуке жилицы, ему сделали пальто с запасом на подоле и на рукавах, чтобы под осень, если будет нужно, можно было удлинить его.
Авдотьины приятельницы уверяли Шурку, что пальто это ему очень к лицу, и говорили ему всякие любезности, а он молодцевато взглядывал на них.
Под Благовещенье был день его рождения, ему кончалось девять лет, и в доме была выпивка. Явившиеся гостьи поздравляли его, пили за его здорбвьице и тормошили его. Он им говорил:
– Пошли вы!
И, освободясь от них, подмигивал им.
Скоро все разговорились, стали похваляться и рассказывать, как здорово им иногда везло. Тут Шурка вызвал мать из «зала» и предупредил ее, чтобы она помалкивала насчет случая с вещичками.
Две гостьи, одна низенькая, а другая дылда с крошечной физиономией и постным видом, вдруг переглянулись. Они жили на другом конце поселка, пришли вместе и сидели рядом. Они вспомнили, как летом, года этак два назад, казаки изрубили на Мамонихином поле семьдесят мадьяр из пленников. Мадьяры эти здесь квартировали, а работали на Кашкинских. Все скопом они шли домой с работы – и такая вдруг история случилась.
Низенькая с скромными ужимками рассказывала, а верзила на всех взглядывала и кивала.
– Всякий, кто успел узнать об этом, поспешил туда, и очень поживились тогда те, кто посильней. Мы сами, хоть уже и старенькие, а вернулись с тремя парами сапог и с разными вещами из карманов – кошелечками и часиками.
– Счастье ваше, что вы тамошние, – стали говорить им слушательницы. – А наш конец глухой, и всё у нас проходит мимо, по усам течет, а в рот не попадает.
Тут заблаговестили, и все перекрестились, а Авдотья, приподняв бутылку, показала ее гостьям.
– Ладно, дорогие мои дамочки, – сказала она, – что там? Всех кусков не схватишь. Бросим горевать, хлебнем еще разочек и пойдем ко всенощной.
Ее дела в то время удавались ей. Она была довольна и всегда сияла. Она сшила себе новенькое платье с голубыми птичками и сделала хорошенькую кофту из шинели. Всех своих детей она одела и обула.
– Прав ты был, – растроганная, говорила она Шурке, – что привел тогда к нам эту женщину. Теперь нас Бог вознаграждает за нее, за то, что мы ее призрели у себя.
Всё чаще между тем стало случаться, что, явясь к Суконкину, она не заставала у него товара. Приходилось отправляться к железнодорожникам разнюхивать, кто ездил за съестным, бросаться к нему, становиться в хвост и возвращаться зачастую с тем, с чем и пришла, – другие успевали узнать раньше и примчаться первыми.
Авдотья вспоминала теперь, как когда-то Аверьяну принесли письмо от Ольги. Если б он не пофорсил тогда, то через Ольгу можно было бы всегда осведомляться, нет ли у Суконкина чего-нибудь в продаже.
Скоро ничего уже нельзя было найти такого, чем бы можно было торговать. Жизнь у Авдотьи в домике опять пошла неважная, харчей стало в обрез, и Шурка пораздумал и решил, что нужно снова идти в жулики.
Уже было тепло, но, чтобы быть солидней, он надел свое брезентовое новое пальто. Он в нем пошел к Егорке, чтобы переговорить с ним, но его не оказалось дома. У него был тиф, и он лежал в больнице. Через полторы недели он там умер.
Один раз Авдотья, выйдя на канаву к козам, встретилась с Василием Ивановичем, земледельцем, и, разговорясь с ним, стала плакаться, а он ей предложил взять Шурку поливать огурчики на хуторе и ездить с лошадьми в ночное.
– Он при нас харчиться будет, – увлекательно сказал он, – и у вас одним ртом меньше станет.
Тут же он зашел за Шуркой, и, припрыгивая, чтобы не отстать от него, Шурка по дороге рассказал ему, какие из сельскохозяйственных работ он делал у Евграфыча.
Калитку им открыла земледельцева жена и сразу же послала Шурку натаскать соломы из соседских крыш. Три курицы квохтали, и она хотела посадить их. Люди же советовали ей, чтобы подстилка была краденая.
Шурка сказал «есть такое», сделал ей под козырек и через несколько минут примчался с ворохом соломы. Чалый был уже впряжён. Василий вынес Шурке квасу и пирог со свеклой и, когда он выпил, отворил ворота и повез его на хутор.
Там он его отдал под начало Гришке, своему племяннику, и Гришка показал ему, что делать.
Правая нога у Гришки была порченая, он хромал, и Шурка знал, что это доктор Марьин, когда началась война, устроил ему это.
Хутор доходил до речки Генераловки, и воду для поливки гряд накачивала лошадь. Она бегала по кругу и вертела колеса. Ковши черпали воду, лили в большой желоб, и оттуда она шла по маленьким. В них были дырки и затычки. Можно было вынимать их и, подставя лейку, наполнять ее и не ходить далёко. Шурке это интересное устройство так понравилось, что он захохотал, когда увидел его.
Гришка был большой любитель музыки и вечером после работы, сидя на крыльце барака, жалостно играл впотьмах на балалайке, а потом рассказывал, как здорово один американец отвечал своей невесте на её упреки, или задавал загадки, а когда их кто-нибудь отгадывал, то Гришка опечаливался и на время замолкал, брал снова балалайку и побренькивал, насупясь.
Шурка скоро подружился с ним и стал с ним обращаться покровительственно, он же, когда сам Василий не присматривал за ними, давал Шурке пожевать чего-нибудь сверх нормы и не очень донимал его работой.
Перед праздниками Шурка ездил с ним домой. Телега погромыхивала. Ноги, свешенные вниз, покачивались. Около дороги стоял лес. Попахивало свежими березовыми вениками.
Пешеходы, перекинув башмаки через плечо, шли сбоку по тропинке. Шурка их оглядывал, прикидывая, что с них можно снять, если убить их.
Гришка то молчал, то оживлялся вдруг и спрашивал, что больше весит – пуд железа или пуд муки, или какая лошадь, придя с луга, больше принесет травинок на спине – с хвостом или бесхвостая, и Шурка отвечал ему, что больше весит пуд железа, и что лошадь больше принесет травы бесхвостая: когда ее кусают мухи, ей приходится сгонять их мордой, и из той травы, которую она жует при этом, несколько травинок остается на ее спине.
Обратно они ехали с зарезанной на ужин курицей учительницы Щербовой, которая жила бок о бок с земледельцем, и когда они пускались в путь, им было слышно иногда, как Щербова разыскивает ее, бегает по переулку и выкрикивает:
– Пыри-пыри!
И тогда они смеялись и подмигивали в ее сторону и делали увеселительные жесты.