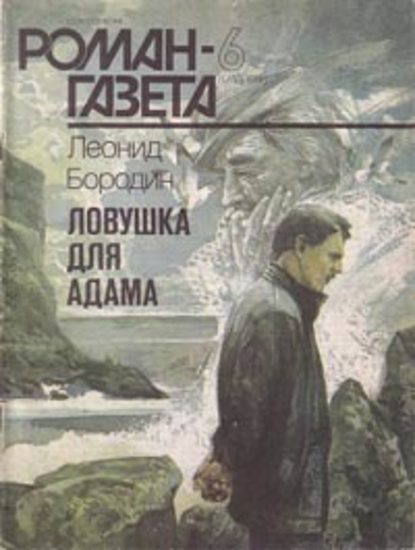По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ловушка для Адама
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
За чаем смородинного происхождения я скупо рассказывал, точнее, импровизировал на тему моей биографии. Вранье получилось скромным и правдоподобным, суть которого состояла из некой личной трагедии, служебных разочарований и решимости на лоне девственной природы привести в порядок расстроенные нервы разочарованной души, что означало мою готовность осчастливить их своим достаточно долгим присутствием. И они, все трое, взглядами и улыбками одобрили мое благородное намерение, и послетрапезная молитва, произнесенная Ксенией, звучала почти торжественно, тем более, что сам я теперь уже без малейшей оплошности вписался в их семейный ритуал.
– Благодарим Тя, еси Господи, – радостно ворковала очаровательнейшая хозяйка центра мироздания, – что насытил Ты нас земных Твоих благ, и не лиши Небесного Твоего Царствия!
– Аминь! – ахнули мы в четыре рта и еще добрую минуту улыбались друг другу. Крупнейшие радары мира зафиксировали странный звук, пришедший словно ниоткуда, похожий на вздох женщины… Я знал, кто это вздохнул облегченно на всю вселенную.
Из-за черемушника первым оглядом я не увидел не только огорода в двадцать соток, но и старого дома метеоролога и метеостанцию. Но как только я увидел дом, это когда повели меня осматривать владения, тотчас же решился и последний, третьестепенный вопрос крыши над головой. Ненужный нынешним хозяевам дом, тем не менее, содержался в порядке, то есть все было на месте: окна и двери открывались и закрывались, пол не проваливался, крыша не текла, печь топилась, – идеальное жилище для человека, не заслужившего даже землянки. Я сказал просто: «Возьмите меня в работники!» И когда сказал, их чуть кондрашка не хватила. Но объяснил кратко и вразумительно, что очень хочу пожить здесь, тунеядцем же быть не намерен, но честным трудом готов отрабатывать пропитание, коим, к сожалению, сам запастись не имел возможности по причине экстремальности ситуации. Иными словами, каждый день я должен получать конкретное задание с одним, безразлично каким выходным днем в неделю. Сам же обязуюсь освоить все виды трудовой деятельности, диктуемые местом пребывания. Сказано все было в таком ультимативном тоне, что любая форма несогласия или возражения исключалась. Антон, в конце концов, хлопнул меня по плечу и сказал, что прокормиться в этих местах запросто можно, если кое-что уметь и кое-что знать, что они так-то уж рады новому человеку, что им вообще везет, и за три года плохие люди сюда не приходили.
Подрастающее поколение тут же изъявило готовность научить меня всяким полезным делам или одному, по крайней мере, – ловить сорожку на древесного червя, а я пообещал во что бы то ни стало освоить…
Приведение моего будущего жилища «в божеский вид» превратилось в семейный праздник. Каждый внес лепту в благоустройство, и, разумеется, более других – Ксения. С истинным вдохновением она мыла, скребла, протирала все, имеющее хотя бы мало-мальские плоскости. На полу появились коврики, на окнах занавески, на подоконниках цветы. Антон подмазал печку, смастерил полочки для ламп, навесил умывальник, подтянул сетку кровати и даже смазал чем-то ее металлические сочленения, чтоб не скрипела. Сам я только крутился между ними в полной бесполезности и слегка устал от восхищений их гостеприимством и комментирований: отлично! здорово! высший класс! нет слов! Запас слов благодарности скоро иссяк, и я уже только разводил руками, прищелкивал языком, закатывал глаза и ахал. Чем больше ахал, тем больше им хотелось угодить мне, и я засомневался, существуют ли вообще пределы благоустройству. К счастью, подступил вечер, возникла идея ужина и оттянула на себя благоустроительные силы. На короткое время я был предоставлен самому себе, смог, наконец, отдышаться от суеты, поваляться на застеленной кровати и даже вздремнуть минут двадцать.
Разбужен был призывными возгласами отрока. Он вытребовал меня на улицу и продемонстрировал приготовленное для меня орудие лова уже известной сорожки – трехколенную удочку с катушкой и снастью – и настойчиво посоветовал именно завтра на утренней зорьке испробовать ее в деле. Заготовку наживки он по-деловому брал на себя.
После гостевой чарки разведенного спирта и превосходного ужина пошли с Антоном прошвырнуться по берегу. Озеро рядом затаенно шелестело, словно подслушивало нашу сумеречную беседу.
– В армии после отбоя, – рассказывал Антон, – засыпал под одно и то же: живу в горах, не один, конечно, кругом скалы и тайга, а у меня избушка у ручья, встаю рано, ложусь рано, веселая работа и жена веселая, какая будет, не знал, воображал только… Не верил, что найду такую, чтоб ушла со мной. Ксеня – первая, какую встретил. Такой и оказалась. Повезло, да?
– А почему обязательно в горы, в тайгу? Почему не в город?
– Не знаю. Что-то особенное хочу услышать, люди и машины всякие – они шумят, а смысла жизненного в шуме – просто крошки какие-то… Ну, это, может, и не главное. А воля? Это только в нашем государстве такое можно или в Америке еще? Чтоб хоть сто, хоть двести километров иди, и никто тебе не скажет, что нельзя…
Остановился, повернулся ко мне.
– Просто некому сказать!
И так хорошо захохотал, что и я каким-то образом подключился, но мой смех не был столь же хорош, потому что он только смеялся, а я еще и вслушивался в его смех и завидовал…
– Через сто лет так уже не будет… Но я и не хочу жить через сто, а ты?
– Два раза пожить – почему бы нет?
– Лучше один раз, но долго, – серьезно сказал Антон. – Так, чтоб устать и уйти, как на отдых… Только я не верю, что устану. Ведь на сто километров не хожу. Незачем. Все тут, да тут. Гадал, когда надоест видеть одно я то же вокруг. Через год? Через два? Три уже прошло – нормально! Ксеню спрашивал, отчего? Говорит – я «надоедку» потерял! У всех есть, а я потерял! Это, говорит, в душе такое устройство, как аппендицит, только вырезать нельзя. А потерять можно.
– А что с ее «надоедкой»? – вкрадчиво спросил я. От моего вопроса он немного опешил, замешкался.
– А знаешь, я как-то и не спрашивал… Сегодня спрошу…
«Ох уж этот наш мужской эгоизм!» – подумал я, пряча в сумерках ухмылку. Решил копнуть глубже.
– А вера? Сам дошел или от Ксени?
– Совпадение. У нее родители верующие. В Тобольске живут. А я… Не знаю… Всегда жить нравилось. Думал обо всем этом. Читал немного… А когда Ксеня появилась, если честно говорить, это же почти чудо… Стал, знаешь, чувствовать, ну, вот будто есть все время кто-то за спиной, дышит в затылок… добрый, можно не оглядываться… Так что я больше спиной верю, чем головой! Смешно, да?
Мы дошли до того камня, из-за которого я подглядывал за своим будущим жизнеобиталищем. Почти стемнело.
– Посмотри, – сказал я, – вон туда, по руке смотри, видишь созвездие будто паук? А теперь левее – красная мерцающая… Говорят, недавно еще этой звезды не было…
– Откуда же взялась-то?
– Может, как раз наоборот, была всегда, а теперь ее не стало, взорвалась, гибель видим, все как у людей… Жил, не замечали, помер – оценили и слово сказали… Но вот один мой знакомый… он говорит, что эта звезда перед концом Света появилась…
– Это он тебе ночью сказал? Точно! Днем такого не скажешь. Днем этого света столько, что, ну, куда же он денется! Ночью нормально спать надо, так человеку положено. Ночь для мышей, для совы и еще всякого зверья, а для человека день. Держи режим, и с головой будет все в порядке. Не знаю, кто как, а я вот уже три года засыпаю, чтоб скорей проснуться и жить. Разве не правильно?
– Оптимизм – признак отсутствия информации… – пробормотал я, поворачиваясь к дому.
– Что? И верно, идти надо. Корове сена еще подброшу, да курятник проверю. Какой-то зверек повадился, по следам не разберусь. Похоже, не местный… Ты, случайно, в следах не волокешь?
– Откуда ж! – рассмеялся я. – Своих-то следов нигде не просекаю! Как будто всю жизнь по воздуху ходил.
– Слушай, – зашептал он, – у Ксени есть такая молитва… Вообще, я тебе скажу, мы думаем, что умные, а там про нас уже все сказано… А в молитве так: Господи! отыми от меня праздность духа, погубляющую время! Здорово, по-моему! А!
К своему дому я пробирался уже при лунном свете. На полочке над столом горела лампа. Рядом спички. На столе стакан молока. Залпом выпил. Парное. Не понравилось.
В доме было душно от протопленной печи. Сырость нежилого дома вышла из стен, пола и потолка и квасилась в воздухе, заполняя ноздри раздражающими запахами. На улице почти не замечал комаров, здесь же косился на них, роящихся вокруг лампы, как на врагов народа. Спать хотелось или не хотелось, не понять. Прошарился на крыльцо из двух ступенек, сел, как упал.
Темнота сожрала весь мир, оставив лишь тени от него и небо. Вспомнилось: праздность духа! Конечно, только праздному духу приятно общение с небом. Еще вспомнил ломоносовское: открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне – дна. Вот образец откровенно предметного, количественного отношения к миру! До хрена звезд и пространства, и да здравствую я, заметивший это! И не будем признаваться, что унижает нас, превращает в жалких козявок объем Божьего мира, что задрать башку хочется и завыть по-человечьи от обиды на ничтожество наше, поскольку воистину червь аз есьм, будь я хоть негром преклонных годов! Тысячу раз прав он, тутошний контролер погоды: ночь противопоказана человеку, ночью разум должен спать и бредить дневными впечатлениями.
Умываться не стал… Где он там, этот умывальник… Упал на кровать в одежде, даже куртки своей любимой и грязной не снял и заснул со стоном, именно так, слышал собственный стон словно со стороны и сильно-сильно пожалел себя.
Когда проснулся, в мире был свет, а в доме был отрок Павел, и он нагло тряс меня за плечо. Мысленно щелкнул его по лбу средним пальцем с оттяжкой, чтоб отстал, но он не отстал, а пристал еще упорнее, и я сдался.
– Один уйду, – пригрозил он, и я вспомнил про рыбалку.
– Натощак рыба не ловится, – проворчал я и заткнулся, увидев на столе ломоть хлеба, яйцо и кружку. Пока умывался и обливался водой, фыркая и ахая, он стоял рядом с полотенцем в руках. Когда перекусывал торопливо, – сидел напротив и пялился на меня. Только приподнялся из-за стола, он нахмурился и ткнул пальцем в направлении моего лба.
– Лоб-то перекрести, нехристь!
Я прямо-таки упал на стул.
– Ну ты даешь, парень!
Сменив гнев на милость, он популярно объяснил мне, что если не молиться, то можно и не умываться, особенно когда вода холодная, потому что душа тоже должна быть чистой, а не только тело, и что чем больше будешь думать о Боге, тем больше Он будет думать о тебе, а тогда о самом себе можно вообще не думать. Потрясенный и униженный праведностью сопляка, я кое-как воспроизвел с его подсказки послетрапезную молитву, заслужил одобрительный кивок и с видом посрамленной дворняги молчаливо выслушал инструкции относительно технологии отлова хитрой и смышленой рыбы сорожки.
Было пять утра, но, как я узнал из того же источника, корова уже подоена и отогнана «в траву», куры «общупаны» и которые без яйца, отпущены во двор, Ксеня сняла утренние показания приборов, а Антон именно в эту минуту передавал очередную сводку в город Читу, где, как уверил меня отрок, без папиной передачи «в погоде ничо понять не могут».
Утро было смурное. Небо и солнце над восточными скалами затянула сизая пленка. Павлик уверял, что это самая рыбалочная погода и что к полдню хмурь уйдет и день будет солнечным и жарким, потому рыба и торопится до жары нажраться и пораньше смотаться в глубину, где ей прохладно. Но пока что прохладно было мне. Тропинкой прошли через полосу черемушника, а у крыльца хозяйского дома нас встретила сияющая, светлоликая Ксения. Я надеялся, что она хотя бы для приличия пожурит своего сыночка, что поднял меня «ни свет ни заря», что, мол, дяде отдохнуть и отоспаться надо бы, но ничего подобного. Наоборот, она радостно закивала головой и подтвердила, что погода клевая, и нам надо поторапливаться, и даже, как спалось, не спросила для приличия… Но зато на крыльце лежали два бушлата. Крохотный для мальчишки и не меньше пятьдесят четвертого размера – для меня. Я радостно занырнул в бушлат, сунул руки в карманы, запахнулся так, что лишь нос торчал из воротника, но чертов отрок тут же сунул мне в руки удочку и сумку, и я вынужден был принять вид лихого добывальщика пропитания.
Озеро не проявило никакого интереса к нашему появлению. Оно пребывало в абсолютном покое, и не хотелось нарушать его ни взмахом удочек, ни всплеском поплавков. Мерзкие, скользкие червяки выкручивались наизнанку и никак не хотели насаживаться на крючки, а крючков было целых три, и пока обрабатывал один, два других цеплялись за рукава и полы бушлата, приходилось выковыривать их из ваты, накалывая пальцы… Когда, наконец, закинул удочку, был основательно разъярен… К тому же громадная коряга, на которой мы устроились, чтобы поглубже закинуть, была скользкой от утренней росы, и, заняв относительно удобную позу, я всей душой надеялся, что мой поплавок никем не будет потревожен, и я смогу слегка подремать… Но увы! И пары минут не прошло, как мой напарник приглушенно взвизгнул и выдернул из воды серебристую ленту. Сумка, висевшая на моем боку, ожила и, должен признаться, оживила и меня, и я уже не столь равнодушно посматривал на свой поплавок. Еще несколько раз взвизгивал рыбачок с ноготок, и моя сумка приобрела вес. Я почувствовал, что начинаю нервничать и слегка раздражаться, как вдруг мой поплавок исчез. Инструкция предусматривала лишь подныривание поплавка и мгновенную реакцию на подсекание… А мой… попросту исчез… С перехваченным дыханием я кивнул в сторону моей лески, испрашивая разъяснений у специалиста.
– Зацеп, – сердито сказал Павлик. – Щас всю рыбу распугаешь. Давай уж тяни, что ли!
Я потянул. Удочка изогнулась и затрепыхалась в руках. Поднапрягся и… о чудо! На всех трех крючках у меня извивались рыбешки!
– Ничего себе! – закричал Павлик. – Тащи тихо! Сорвутся!
Бросив свою удочку на корягу, переполз ко мне, перехватил леску. Рыбы исполняли пляску смерти и в руки его трясущиеся не давались. Но до чего ж цепкие и тренированные были его крохотные пальчики! Справился. Равно пораженные случившимся, мы некоторое время сидели с ним на коряге друг против друга и ахали, и головами покачивали, и языками прищелкивали.
– У папки две попадались, но чтоб три! Здорово!