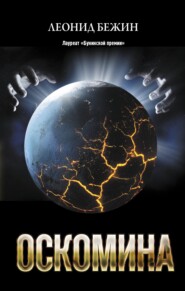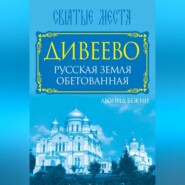По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дневной поезд, или Все ангелы были людьми
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И вдруг послышался слабый, тающий стук в дверь. «Да-да, войдите», – немеющим языком беззвучным и при этом оглушающим шепотом произнес Герман Прохорович. И Прохор вошел. И – заговорил. И улыбнулся ему своей обычной застенчивой улыбкой.
Герман Прохорович, конечно, себе не поверил, посчитал это дурью, блажью, нелепостью, болезненной игрой воображения. Он заслонился руками, а потом беспорядочно замахал ими, отгоняя бесовское наваждение: «Сгинь! Пропади!»
И наваждение исчезло, но вместо него явилось трезвое сознание, что он прогнал не кого-нибудь, а собственного сына, явившегося, чтобы сказать, что он не может быть один, что рядом с ним должен быть кто-то сокровенно близкий, кто постучится в дверь, войдет и улыбнется ему застенчивой и потаенной улыбкой.
Обещанный секрет
За окном посверкало, дальними раскатами прокатился по небу, шелохнулся, ворохнулся гром, но гроза так и не разразилась – лишь порывом ветра швырнуло в окно пузыристую дождевую влагу, распластавшуюся по стеклу, и все затихло. Только еще слышнее, отчетливее дробным стуком застучали колеса, с крыши вагона снесло ветром косую капель, и заструились редкие стеклярусные нити, оставлявшие на стеклах игольчатый пунктир.
– Я хочу открыть вам один секрет, – сказала Капитолина так, словно этому предшествовало долгое размышление – открывать или нет, и, чтобы решиться все-таки открыть, ей пришлось преодолеть немалые сомнения. – А уж вы, пожалуйста, отнеситесь к нему как подобает. – Она смотрела себе под ноги, чтобы не смотреть на тех, кто мог слышать сказанное, ничего в нем не понимая и даже не пытаясь понять всей серьезности ее собственного отношения к секрету.
– А когда я относился несерьезно! – Герман Прохорович сопроводил пытливым взглядом грозовой отсвет в окне. – По-моему, я-то сама серьезность и есть… так сказать, собственной персоной. Правда, сия персона, чтобы не соблазниться намыленной удавкой, позволяет себе всякие шуточки.
– Хорошо. – Она смирилась со сказанным, хотя ничего хорошего в нем не находила. – Только не здесь, а в моем купе, где никого нет.
– На все согласен. И готов сопроводить вас в соседнее купе, если только его не заняли запоздавшие пассажиры. – Морошкин встал, выражая готовность, продиктованную не столько жаждой секретов, сколько обычной вежливостью, но, чтобы не разочаровывать Капитолину, все-таки изобразил некую заинтригованность. – Ей-богу, обожаю секреты.
– Врете, – сказала она тихо, обращаясь к самой себе и не считаясь с тем, что он ее тоже слышит.
– Что-что? Извольте объясниться! – Морошкин слегка поднял тон.
– Что тут объясняться. Ничего вы не обожаете. Вам сейчас не до этого. Вы сами сказали, что вся ваша забота – не удавиться. Но раз уж обещали сопровождать, то сопровождайте.
– Слушаюсь и повинуюсь. Когда я был маленьким, то считал, что секрет – от слова секретер, что в секретере-то и хранятся секреты. Однажды я повернул ключик, откинул крышку и заглянул вовнутрь, но там… кроме старых бумаг и скопившейся пыли, ничего не оказалось.
– Так, может, в бумагах и заключался весь секрет…
– Там было что-то написано, но я никогда не читал бумаг, написанных взрослыми. Для меня это было делом чести. И я никогда не брал забытых кем-то на буфете денег, хотя знал, что их не будут пересчитывать, а просто сгребут и спрячут в карман. Я и сына Прохора таким воспитал.
– А я в детстве изнывала от желания, чтобы кто-то забыл на буфете денежку и она досталась мне. Я жаждала обогащения, мечтая на все деньги накупить конфет, – призналась Капитолина и протянула ему леденец, случайно оказавшийся в кармане. – Вот это все, что осталось от моей мечты…
Герман Прохорович бережно развернул леденец и положил в рот.
– Очень вкусно. Не жалейте ни о чем.
– А я и не жалею, – сказала Капитолина так, словно в его присутствии не жалеть ни о чем для нее было так же радостно и приятно, как и жалеть о чем-то.
Шарфик
– Ну и что же за секрет? – спросил он, когда они перешли в соседнее купе, расчистили место на нижних полках, сдвинув ее чемодан, и уселись рядышком – так же, как они сидели прежде.
Но это ей чем-то не понравилось, и Капитолина пересела на другую полку.
– О чем вы спросили? – Она улыбнулась, извиняясь за свою забывчивость.
Он тоже не преминул посетовать, что иногда кое-что забывает:
– Разве я спросил? Когда?
– Ну только что, только что. – В ее голосе послышались нотки едва сдерживаемого нетерпения.
Морошкин постарался ответить как можно обстоятельнее, ничего не упуская из того, что может оказаться важным в той игре, которую они оба зачем-то – по неведомым причинам – разыгрывали:
– Я спросил, что же за секрет вы собираетесь мне открыть.
– А никакого секрета нет, – ответила она, удивляясь, что он не догадался об этом сам. – Вот видите, я обвинила вас в том, что вы врете, и сама вам все на-вра-ла, – произнесла она по слогам слово, как будто, произнесенное слитно, оно недостаточно уличало ее в обмане.
– А зачем же вы меня сюда позвали в таком случае?
Герман Прохорович привычным жестом поправил на коленях портфель и с удивлением обнаружил, что там нет никакого портфеля: портфель остался в его купе.
– Позвала, чтобы вас завлечь.
– Зачем, зачем? – Чем настойчивее он спрашивал, тем яснее все понимал.
Капитолина загадочно пожала плечами.
– Зачем завлекает женщина… вот и я затем же…
– Это прекрасно. – Морошкин озаботился тем, чтобы вытащить из-под себя шарфик, на который он случайно сел. Герман Прохорович аккуратно разгладил прозрачный шарфик на колене, подбросил и дунул, заинтересованно разглядывая, как он плавает в воздухе. – Это позволяет мне сказать… – Шарфик стал снижаться, и он снова дунул. – …Сказать …сказать, что я без вас жить не могу. Еще вчера я вас не знал, а сегодня… сегодня так получилось, что не могу без вас жить. Вот такая выходит петрушка.
Капитолина враждебно покраснела.
– Вот вам и секрет. А вы беспокоились… беспокоились, что вас оставят без секрета.
– Какие уж там беспокойства… – Шарфик спланировал и улегся ему на колени, и больше он дуть не стал.
Вместо этого поднял на нее глаза с невысказанным вопросом.
– Ах, вам не хватает беспокойства. В таком случае я вас обрадую. Там, в соседнем купе сейчас обыскивают ваш портфель. Вернее, наш портфель, – произнесла она так, словно выделенное голосом слово было ответом на его вопрос.
– Кто обыскивает? Зачем? – Морошкин почему-то смутился и тоже враждебно покраснел.
– Это уж я не знаю. – Капитолина усомнилась в своих знаниях, поскольку он слишком уж о многом ее спрашивал. – Наверное, наши милые попутчики. Обыскивают просто так. Из любопытства. А может быть, и они, сердешные, не могут без вас жить. Не могут так же, как и я.
Клацнула
В соседнем купе и впрямь производился если и не обыск, то таможенный досмотр.
Началось с того, что за окном сверкнуло зловещей фосфорной спичкой, как сверкают уже не дальние зарницы, а ослепительные молнии – здесь, над самой головой, и вагон потряс адский грохот, словно он разломился пополам. Небо хрястнуло, будто вспоротый дерматин, и с оглушительным треском разорвалось надвое по невидимому шву. Хлынул ливень. Залитые стекла побелели нездешней белизной.
Поезд еще некоторое время рвался вперед сквозь отвесную стену дождя, но затем стал сбавлять ход и остановился. Замер. В вагоне погас свет, и упала кромешная тьма. Все проснулись. Дети заплакали.
Боб пощелкал выключателем настенного фонарика у себя наверху и, убедившись, что от него нет никакого прока, произнес:
– Вероятно, где-то повредило провод и в сети упало напряжение. Так бывает во время грозы. Однажды мы ехали в Коктебель…
– Заткнись, – сказала жена, больше всего на свете боявшаяся грозы и почему-то считавшая, что пустая болтовня притягивает молнии, в том числе и шаровые.
Герман Прохорович, конечно, себе не поверил, посчитал это дурью, блажью, нелепостью, болезненной игрой воображения. Он заслонился руками, а потом беспорядочно замахал ими, отгоняя бесовское наваждение: «Сгинь! Пропади!»
И наваждение исчезло, но вместо него явилось трезвое сознание, что он прогнал не кого-нибудь, а собственного сына, явившегося, чтобы сказать, что он не может быть один, что рядом с ним должен быть кто-то сокровенно близкий, кто постучится в дверь, войдет и улыбнется ему застенчивой и потаенной улыбкой.
Обещанный секрет
За окном посверкало, дальними раскатами прокатился по небу, шелохнулся, ворохнулся гром, но гроза так и не разразилась – лишь порывом ветра швырнуло в окно пузыристую дождевую влагу, распластавшуюся по стеклу, и все затихло. Только еще слышнее, отчетливее дробным стуком застучали колеса, с крыши вагона снесло ветром косую капель, и заструились редкие стеклярусные нити, оставлявшие на стеклах игольчатый пунктир.
– Я хочу открыть вам один секрет, – сказала Капитолина так, словно этому предшествовало долгое размышление – открывать или нет, и, чтобы решиться все-таки открыть, ей пришлось преодолеть немалые сомнения. – А уж вы, пожалуйста, отнеситесь к нему как подобает. – Она смотрела себе под ноги, чтобы не смотреть на тех, кто мог слышать сказанное, ничего в нем не понимая и даже не пытаясь понять всей серьезности ее собственного отношения к секрету.
– А когда я относился несерьезно! – Герман Прохорович сопроводил пытливым взглядом грозовой отсвет в окне. – По-моему, я-то сама серьезность и есть… так сказать, собственной персоной. Правда, сия персона, чтобы не соблазниться намыленной удавкой, позволяет себе всякие шуточки.
– Хорошо. – Она смирилась со сказанным, хотя ничего хорошего в нем не находила. – Только не здесь, а в моем купе, где никого нет.
– На все согласен. И готов сопроводить вас в соседнее купе, если только его не заняли запоздавшие пассажиры. – Морошкин встал, выражая готовность, продиктованную не столько жаждой секретов, сколько обычной вежливостью, но, чтобы не разочаровывать Капитолину, все-таки изобразил некую заинтригованность. – Ей-богу, обожаю секреты.
– Врете, – сказала она тихо, обращаясь к самой себе и не считаясь с тем, что он ее тоже слышит.
– Что-что? Извольте объясниться! – Морошкин слегка поднял тон.
– Что тут объясняться. Ничего вы не обожаете. Вам сейчас не до этого. Вы сами сказали, что вся ваша забота – не удавиться. Но раз уж обещали сопровождать, то сопровождайте.
– Слушаюсь и повинуюсь. Когда я был маленьким, то считал, что секрет – от слова секретер, что в секретере-то и хранятся секреты. Однажды я повернул ключик, откинул крышку и заглянул вовнутрь, но там… кроме старых бумаг и скопившейся пыли, ничего не оказалось.
– Так, может, в бумагах и заключался весь секрет…
– Там было что-то написано, но я никогда не читал бумаг, написанных взрослыми. Для меня это было делом чести. И я никогда не брал забытых кем-то на буфете денег, хотя знал, что их не будут пересчитывать, а просто сгребут и спрячут в карман. Я и сына Прохора таким воспитал.
– А я в детстве изнывала от желания, чтобы кто-то забыл на буфете денежку и она досталась мне. Я жаждала обогащения, мечтая на все деньги накупить конфет, – призналась Капитолина и протянула ему леденец, случайно оказавшийся в кармане. – Вот это все, что осталось от моей мечты…
Герман Прохорович бережно развернул леденец и положил в рот.
– Очень вкусно. Не жалейте ни о чем.
– А я и не жалею, – сказала Капитолина так, словно в его присутствии не жалеть ни о чем для нее было так же радостно и приятно, как и жалеть о чем-то.
Шарфик
– Ну и что же за секрет? – спросил он, когда они перешли в соседнее купе, расчистили место на нижних полках, сдвинув ее чемодан, и уселись рядышком – так же, как они сидели прежде.
Но это ей чем-то не понравилось, и Капитолина пересела на другую полку.
– О чем вы спросили? – Она улыбнулась, извиняясь за свою забывчивость.
Он тоже не преминул посетовать, что иногда кое-что забывает:
– Разве я спросил? Когда?
– Ну только что, только что. – В ее голосе послышались нотки едва сдерживаемого нетерпения.
Морошкин постарался ответить как можно обстоятельнее, ничего не упуская из того, что может оказаться важным в той игре, которую они оба зачем-то – по неведомым причинам – разыгрывали:
– Я спросил, что же за секрет вы собираетесь мне открыть.
– А никакого секрета нет, – ответила она, удивляясь, что он не догадался об этом сам. – Вот видите, я обвинила вас в том, что вы врете, и сама вам все на-вра-ла, – произнесла она по слогам слово, как будто, произнесенное слитно, оно недостаточно уличало ее в обмане.
– А зачем же вы меня сюда позвали в таком случае?
Герман Прохорович привычным жестом поправил на коленях портфель и с удивлением обнаружил, что там нет никакого портфеля: портфель остался в его купе.
– Позвала, чтобы вас завлечь.
– Зачем, зачем? – Чем настойчивее он спрашивал, тем яснее все понимал.
Капитолина загадочно пожала плечами.
– Зачем завлекает женщина… вот и я затем же…
– Это прекрасно. – Морошкин озаботился тем, чтобы вытащить из-под себя шарфик, на который он случайно сел. Герман Прохорович аккуратно разгладил прозрачный шарфик на колене, подбросил и дунул, заинтересованно разглядывая, как он плавает в воздухе. – Это позволяет мне сказать… – Шарфик стал снижаться, и он снова дунул. – …Сказать …сказать, что я без вас жить не могу. Еще вчера я вас не знал, а сегодня… сегодня так получилось, что не могу без вас жить. Вот такая выходит петрушка.
Капитолина враждебно покраснела.
– Вот вам и секрет. А вы беспокоились… беспокоились, что вас оставят без секрета.
– Какие уж там беспокойства… – Шарфик спланировал и улегся ему на колени, и больше он дуть не стал.
Вместо этого поднял на нее глаза с невысказанным вопросом.
– Ах, вам не хватает беспокойства. В таком случае я вас обрадую. Там, в соседнем купе сейчас обыскивают ваш портфель. Вернее, наш портфель, – произнесла она так, словно выделенное голосом слово было ответом на его вопрос.
– Кто обыскивает? Зачем? – Морошкин почему-то смутился и тоже враждебно покраснел.
– Это уж я не знаю. – Капитолина усомнилась в своих знаниях, поскольку он слишком уж о многом ее спрашивал. – Наверное, наши милые попутчики. Обыскивают просто так. Из любопытства. А может быть, и они, сердешные, не могут без вас жить. Не могут так же, как и я.
Клацнула
В соседнем купе и впрямь производился если и не обыск, то таможенный досмотр.
Началось с того, что за окном сверкнуло зловещей фосфорной спичкой, как сверкают уже не дальние зарницы, а ослепительные молнии – здесь, над самой головой, и вагон потряс адский грохот, словно он разломился пополам. Небо хрястнуло, будто вспоротый дерматин, и с оглушительным треском разорвалось надвое по невидимому шву. Хлынул ливень. Залитые стекла побелели нездешней белизной.
Поезд еще некоторое время рвался вперед сквозь отвесную стену дождя, но затем стал сбавлять ход и остановился. Замер. В вагоне погас свет, и упала кромешная тьма. Все проснулись. Дети заплакали.
Боб пощелкал выключателем настенного фонарика у себя наверху и, убедившись, что от него нет никакого прока, произнес:
– Вероятно, где-то повредило провод и в сети упало напряжение. Так бывает во время грозы. Однажды мы ехали в Коктебель…
– Заткнись, – сказала жена, больше всего на свете боявшаяся грозы и почему-то считавшая, что пустая болтовня притягивает молнии, в том числе и шаровые.