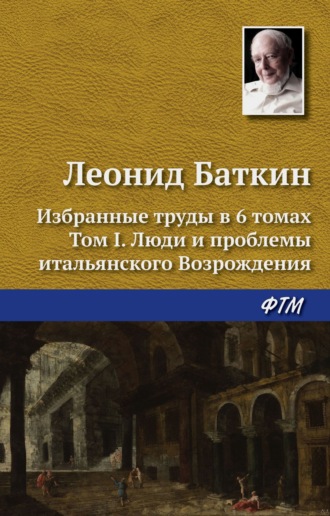
Избранные труды в 6 томах. Том 1. Люди и проблемы итальянского Возрождения
Итак, для меня лично настоящая книга явилась первой реализацией движения в новом направлении. Что же это за направление? Отвечая по возможности коротко и просто, можно бы сказать так. Прежде всего внимание было перенесено на внутреннюю логику ренессансной культуры: на то, каким образом она была «устроена», как в ней возникло и совершалось специфическое смысловое движение, ее, в свою очередь, менявшее.
Вслед за многими западными учеными, преодолевшими с 50–60-х годов и модернизацию Итальянского Возрождения на буркхардтовский лад (изображение его в виде монолита, противостоящего средневековью, и т. п.), и его «медиевизацию» в духе Бурдаха, Тоффанина, Вайзе и др., опираясь особенно, как уже было сказано, на чуткое и сбалансированное понимание этой культуры Э. Гареном и др. как своеобразного переходного состояния, хотелось бы попытаться сделать следующий шаг. А именно: понять саму эту переходность через некую логико-культурную конструкцию. И тем самым взять на себя смелость «вернуться» – никуда, на деле, не возвращаясь и потому в кавычках! – к столь скомпрометированному пониманию Возрождения как относительной исторической целостности, или «типа культуры», а не просто эклектической суммы многих весьма разнородных мыслительных и художественных феноменов, школ, течений, никак не складывавшихся в какую-то общую формулу эпохи (см. подробнее о проблеме в разделе «Замечания о границах Возрождения»). Такой «формулы», действительно, не может быть, если толковать ее как усредненное феноменологическое описание идеологии и вкусов, набор неких «черт» или «признаков» и т. п. К гениальному старому Буркхардту возврата нет: это бессмысленно и невозможно.
Но не попробовать ли усмотреть разгадку объединяющего ренессансного колорита – между прочим, легко угадываемого и ощущаемого, когда вы смотрите на ренессансную фреску или читаете гуманистический трактат, но ускользающего от определения… – не усмотреть ли существо этой загадочной «ренессансности» не столько в тех или иных конкретных идейных, эстетических, этических, мировоззренческих, вообще предметных позициях, сколько в самом способе вырабатывать, занимать, соотносить такие позиции? То есть в стиле жизни и в стиле мышления, взаимно задающих и опосредующих друг друга? Не поискать ли характерно-ренессансное отношение между смыслами, которое позволяло им быть разными и спорящими, но все же в пределах одной культуры? – то, что составляло неповторимый спор Возрождения с самим собой и делало, следовательно, неизбежным его несовпадение с собой, особую нетождественность себе, открытость (в прошлое и в будущее), значит, и способность изменяться, достигать – например, в творчестве Леонардо да Винчи – собственных последних логических пределов, в конце концов исчерпываться, переходить со второй четверти XVI в. в маньеризм и затем во все новые и новые, наследующие Возрождению и отрицающие его европейские культурные конфигурации.
В откровенном пафосе теоретического синтеза состоял – и, возможно, до сих пор состоит? – главный («монистический») риск настоящей книги… как, впрочем, и всего, что я писал о Возрождении в течение последних двадцати лет в поисках объясняющей модели, тех или иных (переключающихся друг в друга) логико-исторических фокусировок конструируемого нами (и вместе с тем соответствующего реальности) ренессансного целого. Если здесь это, главным образом, понятие «диалогичности», то затем будут предложены понятия «стилизующей эпохи» и более всего – «varietà» (см. книгу о Леонардо).
В последние десятилетия привыкли считать такой подход заведомо дилетантским, поверхностным, схоластическим. И я вполне разделяю опасения, оправданные чрезвычайной разнородностью исторического ренессансного духовного существования, его как будто бы несводимостью к какому-то «Возрождению» вообще. Во всякой попытке понять Возрождение в целом и как целое, как культурный «тип», пусть в значении «идеальных типов» Макса Вебера, чудится возврат к слишком неподвижной и неопределенно широкой универсалии, следовательно, бессодержательной и непригодной для любого конкретного анализа, рассеивающейся перед лицом такого анализа.
Верно и то, что не все наличествовавшее в «эпоху Возрождения», хотя бы и в Италии, было по типу мышления «ренессансным». Но все же мы пользуемся понятием «Возрождение», имея в виду не просто внешне хронологические, условные рамки, предполагая тем самым сквозной духовный субстрат, некое уникальное историческое качество общения, мышления, творчества, – выражаясь словами Макьявелли, «la qualità dei tempi», – потребность в синтезе остается навсегда неизбывной, неотменяемой.
Конечно, всякая культура – разная внутри себя, но и тоже каждый раз по-разному. То, что позволяет ей не распадаться, сохранять все же вот этот, объединяющий колорит, быть узнаваемой, именно средневековой, ренессансной, барочной и т. д., а не какой-либо иной – ее историческая возможность, ее, так сказать, логический замысел, понятийная интрига, короче, расшифровка ее как типа культуры, – вот то, чем я занимался применительно к Ренессансу, начиная с работ, вошедших в эту книгу.
И еще.
Перейдя от социологии сознания, от истории идеологии к культурологии, я не помышлял отрываться от ренессансной социальности. Напротив. И не только социальность как качество повседневной жизни и общения внутри «малой группы» гуманистов интересовала меня, но и шире: общество Италии – ренессансная культура. Однако хотелось отказаться от весьма распространенного поныне (и в западной науке) прямолинейного детерминизма, согласно которому вслед за изменениями «общества» («реальности») меняется и «сознание». И культура «отвечает на социальные запросы». Но культуру стоило бы отличать от сознания (или «ментальности»). Если сознание в принципе «отражает» реальность, если ментальность с ней переплетается и является ее долговременной составляющей – то культура (как я ее понимаю вслед за Бахтиным) творит через диалог свою (внутреннюю) социальность. На этом в заключение необходимо несколько задержаться, чтобы высказать соответствующие исходные методологические посылки с достаточной недвусмысленностью и ясностью.
Наиболее основательная социологическая интерпретация – правда, в рамках одного лишь флорентийского гуманизма раннего Кватроченто – предложена в книге Кристиана Бека, сумевшего конкретизировать и развить идеи Ива Ренуара. Показав нам впечатляющую панораму «mens mercatoris» («купеческого склада ума») – как она сказалась в «домашних хрониках», письмах и назидательных сочинениях, вышедших из-под пера самих купцов, – К. Бек считает, что это умонастроение, в свой черед целиком продиктованное условиями экономической и иной деятельности пополанской верхушки, исчерпывающе объясняет идейную структуру гуманизма. С последним мне трудно согласиться. К. Бек понимает дело так, что купцы обзаводятся новой культурой, потребной для их практических нужд, а культура проникается запросами купцов. Ее творят интеллигенты из этой же среды. Происходит конвергенция «делания» и «знания». Гуманизм – это наука неэрудитов и философия нефилософов. «Мощь гуманизма – мощь флорентийских оптиматов», чье возникшее в гуще мировоззрение требовало кодификации, облагораживания и освящения. «Гуманисты снабжают наших купцов теми ответами, которых они ожидают»[26]. Нет! Так может показаться, только если сопоставлять «вопросы» и «ответы» на идеологическом уровне, в пределах конкретных и частных ситуаций. Но этого нельзя сказать о гуманизме или ренессансном искусстве, взятых в их структурной глубине и в полноте их исторических судеб. Заранее ожидаемые, предопределенные ответы – это, собственно, не «ответы». В них нет надобности, если люди сталкиваются с действительно новой ситуацией. Общество получает от культуры, способной к творчеству и самоизменению, именно неожиданные ответы. Да и что такое в подобных случаях «ответ», как не по-новому поставленный вопрос?
Потому-то, если мы, хорошо зная, допустим, весь набор экономических, политических и т. п. характеристик Италии и Нидерландов XV в., ничего не знали бы об их культуре – мы не могли бы что-либо экстраполировать, не сумели бы предсказать Пико делла Мирандолу или Леонардо да Винчи, Ариосто или Ван Эйка, или Брейгеля, или преимущественное развитие в Нидерландах музыки и живописи, или глубокую разницу этих двух синхронных и близких типов культуры. В лучшем случае удалось бы предугадать некоторые отдельные свойства, но не систему их взаимодействия и движения, не неповторимую субъективность, не стилевую реальность мышления.
Руджеро Романо пишет: «Нужно расстаться с ложной схемой, которая состоит в убеждении, будто гуманистическое движение создало новую культуру, новые концептуальные представления, новый умственный инструментарий, которые затем более или менее распространялись в итальянском и европейском обществе посредством школьного образования, чтения книг, созерцания искусства. Гуманистический мир был таким же, как и другие, многие другие культурные миры. Единственное и огромное, революционное отличие состоит в том, что эти гуманисты выражали принципы, которые издавна уже начали входить в итальянскую жизнь. Этим принципам понадобилось много времени, чтобы созреть и стать общим достоянием: и тогда гуманистический кружок придал им теоретический вид и, в известной мере, привел в систему. Так, новое чувство времени или пространства, или смерти, или любви было воспринято не у классиков. Прочесть этих классиков иными глазами стало возможным только с того момента, когда распространилось новое чувство любви, смерти, пространства, времени, и только в меру этого (античные) тексты по-новому отозвались в сердцах и умах людей XV столетия»[27].
На это можно было бы многое возразить. Ф. Шабо хорошо показал, что Ренессанс отличается от предшествующей эпохи не тем, что в средние века нельзя обнаружить, скажем, яркие индивидуальности или интерес к внешнему миру. И тогда люди в повседневной жизни знали толк в плотских радостях, хронисты и скульпторы были способны уловить характерные детали и т. п. Отличие состоит в том, что эти довольно распространенные ощущения не были концептуализованы. Они оставались на уровне «чисто практического действия», не превращаясь в «духовное кредо» и «теоретическое утверждение»[28].
Конечно, Р. Романо прав, настаивая, что гуманизм не мог бы возникнуть вне социальных изменений, преломившихся в психологической обстановке времени и побуждавших гуманистов перестраивать доставшийся им по наследству мыслительный материал. Культура связана и этими эмпирическими импульсами, и материалом, но и то и другое – необходимые предварительные условия. Истолковать их как причину можно, признав вероятностный, неопределенный, заранее неизвестный характер следствий.
Ренессансная культура (и гуманистическая интеллигенция) была способна «служить» обществу, лишь сохраняя независимость, т. е. не просто кодируя на своем языке внешние импульсы, но истолковывая их как собственные внутренние противоречия. Культура исходит из самодостаточных целей, стимулов, методов, будучи чем-то иным и отличным от сферы praxis, что и дает культуре возможность выполнять особую общественную функцию.
Культура преобразует общество, а не только санкционирует задним числом его преобразования. Она его удивляет и озадачивает. Это происходит потому, что культура «отвечает» не обществу, а себе. Зависимость между состоянием общества и культурой может быть, впрочем, прослежена на двух уровнях.
С одной стороны, это прямая связь между прикладными экономическими и политическими интересами, непосредственными потребностями и впечатлениями жизни, эмпирической стихией, в которую погружены индивид и группа, – условно говоря, историческим бытом – и его отражением в культуре в качестве идеологии. Конечно, «быт» – это в конечном счете проявление бытия эпохи, ее коренных свойств, но дающих о себе знать в более обыденном, обедненном, ссохшемся, ситуативном, «бытовом» модусе. Конечно, идеология – в конечном счете проявление свойственного эпохе способа мышления, но преломленного сквозь непосредственно жизненные интересы, заклиненного политически. Поэтому история идеологии – еще не история культуры, это разнокачественные, хотя и перекрещивающиеся уровни. Известно, что к одной идеологической группе могут принадлежать люди несходных культурных ориентаций, а в одну культурную группу могут входить люди несходных идеологических взглядов. Именно так обстояло дело с гуманистами.
Нет ни малейших сомнений в том, что идеология – особенно обязательный предмет исследования, если мы хотим понять отдельных мыслителей или какие-то конкретные культурные феномены в определенной фазе их развития и при данных обстоятельствах. Например, инвектива Салютати против Антонио Лоски, изобилующая патриотическими сентенциями в честь Флоренции, ее граждан-пополанов («multitude populum florentinum»), коммунальной свободы и, наконец, в честь флорентийской торговли и купцов, легко обнаруживает инструментальное содержание[29]. Эта инвектива была бы непонятна вне флорентийской экономической и политической ситуации периода противоборства с висконтиевским Миланом.
Точно так же Франческо Датини, конечно, лишь резюмировал свой опыт крупнейшего дельца XIV в., отпуская в письме едкое замечание: «Человек – опасная штука, когда с ним имеешь дело, но все же в этом мире я больше уповаю на людей, чем на Бога, и этот мир хорошо платит мне за это»[30]. Однако исповедником и ментором Датини был набожный нотариус Лапо Маццеи, придерживавшийся рутинных и патриархальных взглядов.
Несмотря на трезвую практическую хватку, бешеную энергию и богохульственные словечки, Датини по-человечески предстает в переписке с Маццеи скорее средневековым бюргером, чем выразителем какого-то нового мироотношения. В его домашней библиотеке были Псалтырь, несколько отцов церкви, жития святых, Боэций, Якопоне да Тоди и «Цветочки» Франциска Ассизского, а светская литература была представлена только «Божественной комедией» и хроникой Маттео Виллани. Никого из гуманистов – ни Петрарки, ни Боккаччо, а ведь Датини – современник Колюччо Салютати![31]
Вместе с тем миланский оппонент Салютати, Антонио Лоски, – тоже гуманист. Их конкретные идейные позиции противоположны, а миропонимание движется в тех же категориях. Идеология, по сути своей, подвижна и плюралистична. Но что, если мы зададимся целью понять то, что объединяет Салютати и Лоски, гуманистов-республиканцев и гуманистов-цезаристов, а также и созерцательных неоплатоников последней трети XV в., и Боттичелли, и Гирландайо, и Полициано, и Ариосто, совершенно «идеологически» разных людей, – что их делает все же людьми одной эпохи и одного способа мышления? Тогда мы должны идти не от быта к идеологии, а от бытия к культуре. То есть от наиболее тотальных и структурных свойств общества, от вызревшего стиля жизни и типа личности – к новому способу воспринимать мир, в рамках которого существовали и сталкивались конкретные позиции, мнения и эмоции.
Все, что было сказано выше о социальных предпосылках Возрождения, относится к вопросу, «почему могла возникнуть ренессансная культура», а не «почему она не могла не возникнуть». Мы впали бы в своего рода материалистическую мистику, если бы свели культуру к идеологии, а идеологию к экономике: это напоминало бы веру в самозарождение микробов или насекомых из грязи. Общественные изменения свершились, почва для Ренессанса была подготовлена. Но почему Ренессанс стал таким, каким он был? Чтобы понять это, нужно исследовать имманентную логику духовного творчества – логику самого Ренессанса.
Вместе с тем подлинная социальная детерминация такова, что содержит в себе культурную самодетерминацию. Когда мы находим в Италии XIV–XV вв. сочетание «раннего капитализма» с городским полицентризмом – завершенную в себе и распахнутую в простор страны и ойкумены коммуну – подвижность и открытость групп, синкретизм деятельности – изменчивость социальных ролей, их импровизационность – возрастающую важность личной энергии и способностей в рамках среды, не порвавшей, впрочем, с традиционностью, – возникновение в этой своеобразной общественной структуре нового исторического субъекта, – когда мы узнаем подобным образом итальянский город, он предстает перед нами как социум культуры.
Так или иначе, наши поиски социальных предпосылок могут оказаться убедительными ровно в той мере, в какой в «предпосылках» уже заключено само Возрождение, а во внутренних характеристиках Возрождения удастся опознать подготовившие его обстоятельства, в той мере, в какой мы сумеем представить «вызов» и «отклик» в одной (социокультурной) системе понятий. И, значит, проблема «предпосылок» окажется снятой.
Напоследок скажу о другом. Материалы для этой книги отобраны и сгруппированы по разделам и внутри разделов с таким расчетом, чтобы в ней был очевиден мыслительный сюжет. Не просто сборник, а конструкция.
Поэтому, при всей формальной самостоятельности, отдельности, иногда даже этюдности каждой из работ, они связаны достаточно напряженными паузами, смысловыми переходами. Все вместе они – если, конечно, читателю захочется обдумать эти переходы и вообще достанет терпения прочесть книгу подряд – рассказывают некую ренессансную историю; т. е., как и в любой истории, тут есть начало, середина и конец. Поэтому заодно само собой вышло так, что проблемное движение книги соответствует в грубых чертах хронологической смене раннего Возрождения Высоким Возрождением и Высокого – поздним. Рассуждения о границах Возрождения во времени и пространстве заменяют общее введение. Наконец, статья о Кампанелле (сочиненная гораздо раньше прочих, на печальном исходе 60-х годов, и стоящая, как ни погляди, наособицу) являет своего рода эпилог – за пределами Возрождения… также почти за пределами самой книги, что, собственно, и полагается эпилогу.
Вместе с тем я решаюсь еще раз напомнить тем чудакам, кто в наши необыкновенные, суетные, трагические, захватывающие, раздражительные дни нашел бы в себе силы и охоту погружаться всерьез во дни и века вряд ли менее интересные, но очень уж далекие, – напомнить, что книга, по существу, предшествует двум другим, изданным ранее, и составляет первую часть триптиха об историко-культурном своеобразии ренессансного типа культуры в Италии.
Москва, март 1990 года
P.S. Я не стал ни добавлять ссылки на множество исследований, появившихся с тех довольно давних пор, когда эта книга сочинялась, ни вообще что-либо обновлять – даже в тех случаях, когда высказанные соображения я сам потом пересмотрел (например, понятие стилизации здесь отвергнуто в пользу «мифологизации», а уже в книге о «поисках индивидуальности» ренессансная «стилизация» под античность понята, истолкована иначе, методологически реабилитирована). Я, разумеется, спорил с собой, менялся, но ничего трогать в ранних работах не хочется. Выпрямлять путь неинтересно.
Введение
О границах Возрождения
Рассуждая о границах Возрождения во времени и пространстве, я буду исходить из двух посылок. Ими, к сожалению, часто пренебрегают или, во всяком случае, не додумывают их до конца, хотя они до крайности просты и всем известны.
Во-первых. Так как родиной и классической страной Возрождения была Италия, о Возрождении в других странах и в иные времена позволительно говорить лишь постольку, поскольку объясняемая нами культура обнаруживает – по существу и в главном – близость к итальянской ренессансной культуре.
На это, разумеется, можно возразить и обычно возражают, что у каждого народа ренессансность осуществлялась на своем уровне и в особой форме, внешне не похожей на Италию. Да и как ожидать, чтобы Возрождение, например, лютеровской Германии или тем более у славян, а то и в Китае VIII–IX вв., соответствовало нашим впечатлениям от Флоренции Лоренцо Великолепного. А все-таки речь идет о сколь угодно богатом разнообразии в конкретно-исторических пределах одного культурного типа, о местных вариантах и перепадах в выражении некоего общего значения, не так ли? Причем никто, кажется, не отрицает, что Итальянское Возрождение дает самую последовательную, всеохватную, хорошо изученную модель. Одно из двух: или в каком-то случае перед нами и впрямь разновидность того же, что было в Италии; или эта модель ничего не объясняет и подталкивает к почти пародийным натяжкам, но, значит, мы столкнулись с культурой отнюдь не ренессансного склада.
Своеобразные отклонения и национальные модификации классической модели, конечно, естественны и неизбежны; однако они (по определению) не должны уравновешивать или тем более перевешивать общее и сходное. Иначе какой же смысл называть нечто чуждое и немыслимое для Возрождения, каким мы его знаем на итальянском материале, тоже «Возрождением»?
Это спор не о словах. Обозначая слишком разные вещи одним словом, историк принуждает себя принимать за отклонение от основной теоретической схемы то, что на деле свидетельствует о самодовлеющей сути. Это все равно что определять женщину через понятие «мужчина»: «Женщина есть мужчина, который, однако… и т. д., это, следовательно, специфический, женский мужчина». Говоря серьезно, такой способ исследования встречается не столь уж редко. Подлинный логический субъект опускается, описывается как предикат мнимого субъекта, инородного и заимствованного априорно. Из правильных феноменологических наблюдений посредством такой процедуры делается вывод: «Тут реализм, но… вовсе не похожий на собственно реализм XIX в., а ренессансный, т. е. фантастический (монументальный, идеализированный, мифологизирующий и т. п.) реализм». Или – «это тоже Возрождение, но…» и т. д. То, что в подобных утверждениях следует за «но…», должно бы стать доводом в пользу какой-то конкретизации Возрождения на местной почве, но оборачивается доказательством его решительной невозможности и отсутствия. Накладываемые на описание «ренессансные» дефиниции, побуждая к оглядке на Италию (иначе же они внеисторичны, лишены содержательной определенности!), только мешают теоретически истолковать культуру совершенно не итальянского и, значит, не ренессансного, а суверенного и равноправного типа. Поступают так: сначала по аналогии применяют понятие «Возрождение» (например, «Северное Возрождение»), а затем, сравнивая поневоле с Италией, оговаривают «глубокие отличия». Не лучше ли сначала сравнить с Италией, т. е. убедиться в степени соответствия «своего» и ренессансного материала, а затем уже решать, применимо ли здесь вообще понятие «Возрождение»? Я далек от того, чтобы ставить, допустим, объяснение нидерландской живописи или немецкой скульптуры XV–XVI вв. в зависимость от высоких итальянских образцов.
Напротив, возврат к пониманию Возрождения как в первую очередь итальянского (и затем уже отчасти регионального западноевропейского) явления поможет увидеть в нем достаточно строгий исторический термин, а не почетное и риторическое клише, легко прилагаемое к тому, что, в отличие от Возрождения, действительно было многолинейно-всемирным, – к зрелому и позднему средневековью.
Во-вторых. Критерий, позволяющий судить, в какой мере близки или далеки рассматриваемые культурные явления от Итальянского Возрождения, оправдано ли подведение этих явлений, несмотря на известные отличия, под тот же самый культурный тип, или, вопреки известной общности, разумней видеть в них выражение другого, параллельного типа, или, наконец, никакой даже и параллельности нет и в помине, – такой критерий, без которого затянувшиеся споры на подобные темы лишены, по-моему, интереса, может быть основан на системном принципе.
Сперва само Итальянское Возрождение нужно бы вновь истолковать – отнюдь не возвращаясь к Буркхардту – как более или менее относительную историческую целостность социально-культурной структуры и стиля мышления. Ведь хронологически-последовательное описание эпохи, сопровождаемое привычными замечаниями о гуманизме и культе античности, об антропоцентризме, индивидуализме, обращении к земному и плотскому началу, о героизации личности, о фантастическом преувеличении ее возможностей, о художественном реализме, о зарождении науки, об увлечении магией и гротеском и т. д., и т. п., – каким бы убедительным ни казался этот перечень признаков ренессансного мировосприятия – не облегчает понимания их внутренне необходимой связи. Кстати, некоторые из названных признаков могут быть вполне убедительно оспорены. Иные странно противоречат друг другу. И нет среди них ни одного, который не толковался бы исследователями по-разному и который, будучи взят изолированно и сведен к общим местам, не мог бы обнаружиться хотя бы в Индии или Средней Азии. Из перечня «черт», из описания изученных вдоль и поперек эмпирических сведений о Возрождении отнюдь не проступает сама собой его сущность – то, что сделало Возрождение особенным типом культуры, со свойственным только ему стилем жизни и мышления.
Между тем вопрос о структуре этого типа всерьез не ставится. Практически и в спорах вокруг периодизации, и в поисках восточной ренессансности всегда исходят именно из суммы тех или иных признаков, традиционно напоминающих об Итальянском Возрождении. Предполагается, что это уж всем известно – что было в Италии. А что было в Италии?

