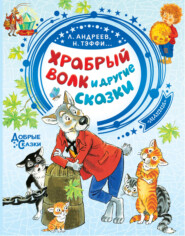По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Повести и рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да и та была старая! – самодовольно добавлял он и ставил этот случай в особенную себе заслугу.
Всех людей он искренно считал подлецами и дураками, не знал жалости ни к тем, ни к другим и собственноручно вешал щенят, которых ежегодно в изобилии приносила черная сучка Цыганка. Одного из щенят, который покрупнее, он оставлял для завода и, если просили, охотно раздавал остальных, так как считал собак животными полезными. В суждениях своих Иван Порфирыч был быстр и неоснователен и легко отступался от них, часто сам того не замечая, но поступки его были тверды, решительны и почти всегда безошибочны.
И все это делало старосту страшным и необыкновенным в глазах запуганного попа. При встрече он первый с неприличной торопливостью снимал широкополую шляпу и, уходя, чувствовал, как чаще и лотошливее становятся его шаги – шаги человека, которому стыдно и страшно, – и путаются в длинной рясе жилистые ноги. Точно вся жестокая, загадочная судьба его воплотилась в этой огромной черной бороде, волосатых руках и прямой, твердой поступи, и если о. Василий не сожмется весь, не посторонится, не спрячется за своими стенами, – эта грозная туша раздавит его, как муравья. И все, что принадлежало Ивану Порфирычу Копрову и касалось его, интересовало попа так, что иногда по целым дням он не мог думать ни о чем другом, кроме старосты, его жены, его детей и богатства. Работая в поле вместе с крестьянами, сам похожий на крестьянина в своих грубых смазных сапогах и посконной рубахе, о. Василий часто оборачивался к селу, и первое, что он видел после церкви, была красная железная крыша старостина двухэтажного дома. Потом среди завернувшейся от ветра серой зелени ветел он с трудом отыскивал деревянную потемневшую крышу своего домика, – и было в двух этих непохожих крышах что-то такое, от чего жутко и безнадежно становилось на сердце у попа.
Однажды на Воздвиженье попадья пришла из церкви вся в слезах и рассказала, что Иван Порфирыч оскорбил ее. Когда попадья проходила на свое место, он сказал из-за конторки так громко, что все слышали:
– Эту пьяницу совсем бы в церковь пускать не следовало. Стыд!
Попадья рассказывала и плакала, и о. Василий видел с беспощадною и ужасной ясностью, как постарела она и опустилась за четыре года со смерти Васи. Молода она еще была, а в волосах у нее пролегали уже серебристые нити, и белые зубы почернели, и запухли глаза. Теперь она курила, и странно и больно было видеть в руках ее папироску, которую она держала неумело, по-женски, между двумя выпрямленными пальцами. Она курила и плакала, и папироска дрожала в ее опухших от слез губах.
– Господи, за что? Господи! – тоскливо повторяла она и с тупою пристальностью смотрела в окно, за которым моросил сентябрьский дождь.
Стекла были мутны от воды, и призрачной, расплывающейся тенью колыхалась отяжелевшая береза. В доме еще не топили, жалея дров, и воздух был сырой, холодный и неприютный, как на дворе.
– Что ж с ними поделаешь, Настенька! – оправдывался поп, потирая горячие сухие руки. – Терпеть надо.
– Господи! Господи! И защитить некому! – плакалась попадья; а в углу сквозь жесткие спутанные волосы неподвижно и сухо горели волчьи глаза угрюмой Насти. К ночи попадья напилась, и тогда началось для о. Василия то самое страшное, омерзительное и жалкое, о чем он не мог думать без целомудренного ужаса и нестерпимого стыда. В болезненной темноте закрытых ставен, среди чудовищных грез, рожденных алкоголем, под тягучие звуки упорных речей о погибшем первенце у жены его явилась безумная мысль: родить нового сына, и в нем воскреснет безвременно погибший. Воскреснет его милая улыбка, воскреснут его глаза, сияющие тихим светом, и тихая, разумная речь его, – воскреснет весь он в красоте своего непорочного детства, каким был он в тот ужасный июльский день, когда ярко горело солнце и ослепительно сверкала обманчивая река. И, сгорая в безумной надежде, вся красивая и безобразная от охватившего ее огня, попадья требовала от мужа ласк, униженно молила о них. Она прихорашивалась и заигрывала с ним, но ужас не сходил с его темного лица; она мучительно старалась снова стать той нежной и желанной, какой была десять лет назад, и делала скромное девичье лицо, и шептала наивные девичьи речи, но хмельной язык не слушался ее, сквозь опущенные ресницы еще ярче и понятнее сверкал огонь страстного желания, – и не сходил ужас с темного лица ее мужа. Он закрывал руками горящую голову и бессильно шептал:
– Не надо! Не надо!
Тогда она становилась на колени и хрипло молила:
– Пожалей! Отдай мне Васю! Отдай, поп! Отдай, тебе я говорю, проклятый!
А в наглухо закрытые ставни упорно стучал осенний дождь, и тяжко и глубоко вздыхала ненастная ночь. Отрезанные стенами и ночью от людей и жизни, они точно крутились в вихре дикого и безысходного сна, и вместе с ними крутились, не умирая, дикие жалобы и проклятия. Само безумие стояло у дверей; его дыханием был жгучий воздух, его глазами – багровый огонь лампы, задыхавшийся в глубине черного, закопченного стекла.
– Не хочешь? Не хочешь? – кричала попадья и в яростной жажде материнства рвала на себе одежды, бесстыдно обнажаясь вся, жгучая и страшная, как вакханка, трогательная и жалкая, как мать, тоскующая о сыне. – Не хочешь? Так вот же перед Богом говорю тебе: на улицу пойду! Голая пойду! К первому мужчине на шею брошусь. Отдай мне Васю, проклятый!
И страсть ее побеждала целомудренного попа. Под долгие стоны осенней ночи, под звуки безумных речей, когда сама вечно лгущая жизнь словно обнажала свои темные таинственные недра, – в его помраченном сознании мелькала, как зарница, чудовищная мысль: о каком-то чудесном воскресении, о какой-то далекой и чудесной возможности. И на бешеную страсть попадьи он, целомудренный и стыдливый, отвечал такою же бешеной страстью, в которой было все: и светлая надежда, и молитва, и безмерное отчаяние великого преступника.
Позднею ночью, когда попадья уснула, о. Василий взял шляпу и палку и, не одеваясь, в старенькой нанковой ряске отправился в поле. Тонкая водяная пыль влажным и холодным слоем лежала над размокшей землей; черно было небо, как земля, и великой бесприютностью дышала осенняя ночь. Во тьме ее бесследно сгинул человек; стукнула палка о подвернувшийся камень, – и все стихло, и наступило долгое молчание. Мертвая водяная пыль своими ледяными объятиями душила всякий робкий звук, и не колыхалась омертвевшая листва, и не было ни голоса, ни крика, ни стона. Была долгая и мертвая тишина.
И далеко за селом, за много верст от жилья, прозвучал во тьме невидимый голос. Он был надломленный, придушенный и глухой, как стон самой великой бесприютности. Но слова, сказанные им, были ярки, как небесный огонь.
– Я – верю, – сказал невидимый голос.
Угроза и молитва, предостережение и надежда были в нем.
III
Весною попадья забеременела, целое лето не пила, и в доме о. Василия воцарился тихий и радостный покой. По-прежнему незримый враг наносил удары: то сдох двенадцатипудовый боров, приготовленный для продажи; то у Насти пошли по всему телу какие-то лишаи и не поддавались лечению, – но все это выносилось легко, и попадья в тайниках души даже радовалась: она все еще сомневалась в своем великом счастье, и все эти неприятности казались ей платою за него. Казалось, что если сдохнет дорогой боров, поболеет Настя и произойдет другое печальное, то будущего сына ее никто не осмелится тронуть и обидеть. А за него не только дом и Настю, но и себя, и душу свою отдала бы она с радостью тому невидимому и беспощадному, кто требовал неустанных жертв.
Она похорошела, перестала бояться Ивана Порфирыча и в церкви, идя на свое место, гордо выпячивала округлившийся живот и бросала на людей смелые, самоуверенные взгляды. Чтобы как-нибудь не повредить ребенку, она перестала работать тяжелую домашнюю работу и целые дни проводила в соседнем казенном лесу, собирая грибы. Она очень боялась родов и по грибам загадывала, будут они благополучны или нет: большею частью выходило, что будут благополучны. Иногда среди прошлогодней слежавшейся листвы, темной и пахучей, под непроницаемым зеленым сводом высоких ветвей, она отыскивала семейку белых грибов; они тесно прижимались друг к другу и, темноголовые, наивные, казались ей похожими на маленьких детей и вызывали острую нежность и умиление. С той особенной, правдивой улыбкою, какая бывает у людей, когда у них хорошие мысли и они одни, она осторожно раскапывала вокруг корней волокнистую, серо-пепельную землю, садилась около грибов и долго любовалась ими, немного бледная от зеленых теней леса, но красивая, спокойная и добрая. Потом опять шла развалистой и осторожною походкой беременной женщины, и густой лес, в котором прятались маленькие грибки, казался ей живым, умным и ласковым. Один раз она захватила с собою Настю, но та прыгала, шумела, рыскала среди кустов, как развеселившийся волчонок, и мешала попадье думать, – и больше она ее не брала.
И зима проходила хорошо и спокойно. По вечерам попадья шила маленькие распашонки и свивальники, задумчиво расправляя материю белыми пальцами, озаренными ярким светом лампы. Она расправляла и разглаживала рукою мягкую ткань, точно ласкала ее, и думала что-то свое, особенное, материнское, и в голубой тени абажура красивое лицо ее казалось попу освещенным изнутри каким-то мягким и нежным светом. Боясь неосторожным движением спугнуть ее прекрасную и радостную думу, о. Василий тихо расхаживал по комнате, и ноги его в мягких туфлях ступали неслышно и нежно. Он посматривал то на уютную комнату, добрую и приятную, как друг, то на жену, и все было хорошо, как у людей, и от всего исходил радостный и глубокий покой. И душа его тихо улыбалась, и он не замечал и не знал, что во лбу его, где-то между бровями, безмолвно пролегает прозрачная тень великой скорби. Ибо и в эти дни покоя и отдыха над жизнью его тяготел суровый и загадочный рок.
На Крещенье, ночью, попадья благополучно разрешилась от бремени мальчиком, и нарекли его Василием. Была у него большая голова и тоненькие ножки и что-то странно-тупое и бессмысленное в неподвижном взгляде округлых глаз. Три года провели поп и попадья в страхе, сомнениях и надежде, и через три года ясно стало, что новый Вася родился идиотом.
В безумии зачатый, безумным явился он на свет.
IV
Прошел еще один год в тяжком оцепенении горя, и когда люди очнулись и взглянули вокруг себя – над всеми мыслями и жизнью их господствовал страшный образ идиота. Как прежде, топились печи, и велось хозяйство, и люди разговаривали о своих делах, но было нечто новое и страшное; ни у кого не стало охоты жить, и от этого все приходило в расстройство. Работники ленились, не делали что приказывают, и часто без причины уходили, а новых через два-три дня охватывала та же странная тоска и равнодушие, и они начинали грубить. Обед подавался то поздно, то рано, и всегда кого-нибудь не хватало за столом: или попадьи, или Насти, или самого о. Василия. Откуда-то появилось множество рваного белья и одежды, и попадья все твердила, что нужно заштопать мужу носки, и как будто штопала, а вместе с тем носки всегда были рваные, и о. Василий натирал ногу. И по ночам все ворочались и мучились от клопов; они лезли из всех щелей, на глазах ползали по стене, и ничем нельзя было остановить их отвратительного нашествия.
И куда бы люди ни шли, что бы они ни делали, они ни на минуту не забывали, что там, в полутемной комнате, сидит некто неожиданный и страшный, безумием рожденный. Когда они выходили из дому на свет, они старались не оборачиваться и не глядеть назад, но не могли выдержать и оборачивались – и тогда казалось им, что сам деревянный дом сознает страшную перемену: он точно сжался весь, и скорчился, и прислушивается к тому страшному, что содержится в глубине его, и все его вытаращенные окна, глухо замкнутые двери с трудом удерживают крик смертельного испуга. Попадья часто уходила в гости и целыми часами просиживала у дьяконицы, но и там не находила она покоя: как будто между идиотом и ею протягивались тонкие, как паутина, нити, и соединяли их прочно и навсегда. И если она уйдет на край света, скроется за высокими стенами монастыря или даже умрет – и туда, во мрак могилы, потянутся за нею тонкие, как паутина, нити и опутают ее беспокойством и страхом. И не были спокойны их ночи: бесстрастны были лица спящих, а под их черепом, в кошмарных грезах и снах вырастал чудовищный мир безумия, и владыкою его был все тот же загадочный и страшный образ полуребенка, полузверя.
Ему было четыре года, но он еще не начал ходить и умел говорить одно только слово: «дай»; был зол и требователен и, если чего-нибудь не давали, громко кричал злым животным криком и тянул вперед руки с хищно скрюченными пальцами. В своих привычках он был нечистоплотен, как животное, все делал под себя, на постилку, и менять ее было каждый раз мучением: с злой хитростью он выжидал момента, когда к нему наклонится голова матери или сестры, и впивался в волосы руками, выдергивая целые пряди. Однажды он укусил Настю; та повалила его на кровать и долго и безжалостно била, точно он был не человек и не ребенок, а кусок злого мяса; и после этого случая он полюбил кусаться и угрожающе скалил зубы, как собака.
Так же трудно было кормить его, – жадный и нетерпеливый, он не умел рассчитывать своих движений: опрокидывал чашку, давился и злобно тянулся к волосам скрюченными пальцами. И был отвратителен и страшен его вид: на узеньких, совсем еще детских плечах сидел маленький череп с огромным, неподвижным и широким лицом, как у взрослого. Что-то тревожное и пугающее было в этом диком несоответствии между головой и телом, и казалось, что ребенок надел зачем-то огромную и страшную маску.
И, как прежде, стала пить измученная попадья. Пила она много, до потери сознания и болезни, но и могучий алкоголь не мог вывести ее из железного круга, в середине которого царил страшный и необыкновенный образ полуребенка-полузверя. Как прежде, искала она в водке жгучих и скорбных воспоминаний о погибшем первенце, но они не приходили, и тяжелая, мертвая пустота не дарила ей ни образа, ни звука. Всеми силами разгоряченного мозга она вызывала милое лицо тихонького мальчика, напевала песенки, какие пел он, улыбалась, как он улыбался, представляла, как давился он и захлебывался молчаливой водой; и, уже казалось, становился близок он, и зажигалась в сердце великая, страстно желанная скорбь, – когда внезапно, неуловимо для зрения и слуха, все проваливалось, все исчезало, и в холодной, мертвой пустоте появлялась страшная и неподвижная маска идиота. И казалось попадье, что во второй раз похоронила она Васю и глубоко зарыла его; и хотелось разбить голову, в самых недрах которой нагло царит чуждый и отвратительный образ. В страхе она металась по комнате и звала мужа:
– Василий! Василий! Скорее сюда!
О. Василий приходил и молча усаживался в неосвещенном углу; и был так безучастен он и спокоен, как будто не было ни крика, ни безумия, ни страха. И глаз его не видно было, и под тяжелою надбровною аркою неподвижно чернели два глубоких пятна, от которых исхудавшее лицо казалось похожим на череп. Опершись подбородком на костлявую руку, он застывал в тяжелом молчании и неподвижности, пока успокоенная попадья с безумной старательностью загораживала дверь, за которой находился идиот. Она сдвигала столы и стулья, набрасывала подушки и платья, но этого казалось ей мало. И с силой пьяного человека она срывала с места тяжелый старинный комод и двигала его к двери, царапая пол.
– Стулья отодвинь! – запыхавшись, кричала она мужу, и тот молча вставал, освобождал место и снова садился в свой угол.
На минуту попадья успокаивалась и садилась, сдерживая рукой тяжелое дыхание, но тотчас же вскакивала и, откинув с уха распустившиеся волосы, с ужасом прислушивалась к тому, что грезилось ей за стеной.
– Слышишь? Василий, слышишь?
Два черных пятна неподвижно глядели на нее, и безучастный далекий голос отвечал:
– Там тихо. Он спит. Успокойся, Настя.
Попадья улыбалась радостно и светло, как ребенок, и нерешительно присаживалась на кончик стула.
– Правда? Спит? Ты сам видел? Не лги: лгать грешно.
– Да, видел. Спит.
– А кто же говорит там?
– Никого там нет. Это послышалось тебе.
И попадье становилось так весело, что она громко смеялась, шутливо покачивала головой и неопределенно отмахивалась – как будто хотел кто-то злой пошутить над нею и напугать, а она поняла его шутку и теперь смеется. Но без отзвука, как камень в бездонную пропасть, падал и тут же умирал одинокий смех, и еще кривился усмешкою рот, когда в глазах ее уже нарастал холодный страх. И такая тишина стояла, словно никогда и никто не смеялся в этой комнате, и с разбросанных подушек, с перевернутых стульев, таких странных, когда смотреть на них снизу, с тяжелого комода, неуклюже стоящего на необычном месте, – отовсюду глядело на нее голодное ожидание какой-то страшной беды, каких-то неведомых ужасов, доселе не испытанных еще человеком. Она оборачивалась к мужу, – в черном углу мутно серело что-то длинное, прямое, смутное, как призрак; она наклонялась ближе, – на нее смотрело лицо, но смотрело оно не глазами, сокрытыми черною тенью бровей, а белыми пятнами острых скул и лба. И, часто дыша громким дыханием страха, она тихо жаловалась:
– Вася! Я боюсь тебя. Какой ты, право! Иди сюда, к свету.
О. Василий покорно перешагнул к столу, и теплый свет лампы пал на его лицо, но не согрел его. Но оно было спокойно, на нем не было страха, и этого было достаточно для попадьи. Приблизив губы к самому уху о. Василия, она шепотом спросила:
– Поп, а поп! Ты помнишь Васю… того Васю?
– Нет.
– Ага! – обрадовалась попадья. – Тоже нет. И я нет. Тебе страшно, поп? А? Страшно?
Всех людей он искренно считал подлецами и дураками, не знал жалости ни к тем, ни к другим и собственноручно вешал щенят, которых ежегодно в изобилии приносила черная сучка Цыганка. Одного из щенят, который покрупнее, он оставлял для завода и, если просили, охотно раздавал остальных, так как считал собак животными полезными. В суждениях своих Иван Порфирыч был быстр и неоснователен и легко отступался от них, часто сам того не замечая, но поступки его были тверды, решительны и почти всегда безошибочны.
И все это делало старосту страшным и необыкновенным в глазах запуганного попа. При встрече он первый с неприличной торопливостью снимал широкополую шляпу и, уходя, чувствовал, как чаще и лотошливее становятся его шаги – шаги человека, которому стыдно и страшно, – и путаются в длинной рясе жилистые ноги. Точно вся жестокая, загадочная судьба его воплотилась в этой огромной черной бороде, волосатых руках и прямой, твердой поступи, и если о. Василий не сожмется весь, не посторонится, не спрячется за своими стенами, – эта грозная туша раздавит его, как муравья. И все, что принадлежало Ивану Порфирычу Копрову и касалось его, интересовало попа так, что иногда по целым дням он не мог думать ни о чем другом, кроме старосты, его жены, его детей и богатства. Работая в поле вместе с крестьянами, сам похожий на крестьянина в своих грубых смазных сапогах и посконной рубахе, о. Василий часто оборачивался к селу, и первое, что он видел после церкви, была красная железная крыша старостина двухэтажного дома. Потом среди завернувшейся от ветра серой зелени ветел он с трудом отыскивал деревянную потемневшую крышу своего домика, – и было в двух этих непохожих крышах что-то такое, от чего жутко и безнадежно становилось на сердце у попа.
Однажды на Воздвиженье попадья пришла из церкви вся в слезах и рассказала, что Иван Порфирыч оскорбил ее. Когда попадья проходила на свое место, он сказал из-за конторки так громко, что все слышали:
– Эту пьяницу совсем бы в церковь пускать не следовало. Стыд!
Попадья рассказывала и плакала, и о. Василий видел с беспощадною и ужасной ясностью, как постарела она и опустилась за четыре года со смерти Васи. Молода она еще была, а в волосах у нее пролегали уже серебристые нити, и белые зубы почернели, и запухли глаза. Теперь она курила, и странно и больно было видеть в руках ее папироску, которую она держала неумело, по-женски, между двумя выпрямленными пальцами. Она курила и плакала, и папироска дрожала в ее опухших от слез губах.
– Господи, за что? Господи! – тоскливо повторяла она и с тупою пристальностью смотрела в окно, за которым моросил сентябрьский дождь.
Стекла были мутны от воды, и призрачной, расплывающейся тенью колыхалась отяжелевшая береза. В доме еще не топили, жалея дров, и воздух был сырой, холодный и неприютный, как на дворе.
– Что ж с ними поделаешь, Настенька! – оправдывался поп, потирая горячие сухие руки. – Терпеть надо.
– Господи! Господи! И защитить некому! – плакалась попадья; а в углу сквозь жесткие спутанные волосы неподвижно и сухо горели волчьи глаза угрюмой Насти. К ночи попадья напилась, и тогда началось для о. Василия то самое страшное, омерзительное и жалкое, о чем он не мог думать без целомудренного ужаса и нестерпимого стыда. В болезненной темноте закрытых ставен, среди чудовищных грез, рожденных алкоголем, под тягучие звуки упорных речей о погибшем первенце у жены его явилась безумная мысль: родить нового сына, и в нем воскреснет безвременно погибший. Воскреснет его милая улыбка, воскреснут его глаза, сияющие тихим светом, и тихая, разумная речь его, – воскреснет весь он в красоте своего непорочного детства, каким был он в тот ужасный июльский день, когда ярко горело солнце и ослепительно сверкала обманчивая река. И, сгорая в безумной надежде, вся красивая и безобразная от охватившего ее огня, попадья требовала от мужа ласк, униженно молила о них. Она прихорашивалась и заигрывала с ним, но ужас не сходил с его темного лица; она мучительно старалась снова стать той нежной и желанной, какой была десять лет назад, и делала скромное девичье лицо, и шептала наивные девичьи речи, но хмельной язык не слушался ее, сквозь опущенные ресницы еще ярче и понятнее сверкал огонь страстного желания, – и не сходил ужас с темного лица ее мужа. Он закрывал руками горящую голову и бессильно шептал:
– Не надо! Не надо!
Тогда она становилась на колени и хрипло молила:
– Пожалей! Отдай мне Васю! Отдай, поп! Отдай, тебе я говорю, проклятый!
А в наглухо закрытые ставни упорно стучал осенний дождь, и тяжко и глубоко вздыхала ненастная ночь. Отрезанные стенами и ночью от людей и жизни, они точно крутились в вихре дикого и безысходного сна, и вместе с ними крутились, не умирая, дикие жалобы и проклятия. Само безумие стояло у дверей; его дыханием был жгучий воздух, его глазами – багровый огонь лампы, задыхавшийся в глубине черного, закопченного стекла.
– Не хочешь? Не хочешь? – кричала попадья и в яростной жажде материнства рвала на себе одежды, бесстыдно обнажаясь вся, жгучая и страшная, как вакханка, трогательная и жалкая, как мать, тоскующая о сыне. – Не хочешь? Так вот же перед Богом говорю тебе: на улицу пойду! Голая пойду! К первому мужчине на шею брошусь. Отдай мне Васю, проклятый!
И страсть ее побеждала целомудренного попа. Под долгие стоны осенней ночи, под звуки безумных речей, когда сама вечно лгущая жизнь словно обнажала свои темные таинственные недра, – в его помраченном сознании мелькала, как зарница, чудовищная мысль: о каком-то чудесном воскресении, о какой-то далекой и чудесной возможности. И на бешеную страсть попадьи он, целомудренный и стыдливый, отвечал такою же бешеной страстью, в которой было все: и светлая надежда, и молитва, и безмерное отчаяние великого преступника.
Позднею ночью, когда попадья уснула, о. Василий взял шляпу и палку и, не одеваясь, в старенькой нанковой ряске отправился в поле. Тонкая водяная пыль влажным и холодным слоем лежала над размокшей землей; черно было небо, как земля, и великой бесприютностью дышала осенняя ночь. Во тьме ее бесследно сгинул человек; стукнула палка о подвернувшийся камень, – и все стихло, и наступило долгое молчание. Мертвая водяная пыль своими ледяными объятиями душила всякий робкий звук, и не колыхалась омертвевшая листва, и не было ни голоса, ни крика, ни стона. Была долгая и мертвая тишина.
И далеко за селом, за много верст от жилья, прозвучал во тьме невидимый голос. Он был надломленный, придушенный и глухой, как стон самой великой бесприютности. Но слова, сказанные им, были ярки, как небесный огонь.
– Я – верю, – сказал невидимый голос.
Угроза и молитва, предостережение и надежда были в нем.
III
Весною попадья забеременела, целое лето не пила, и в доме о. Василия воцарился тихий и радостный покой. По-прежнему незримый враг наносил удары: то сдох двенадцатипудовый боров, приготовленный для продажи; то у Насти пошли по всему телу какие-то лишаи и не поддавались лечению, – но все это выносилось легко, и попадья в тайниках души даже радовалась: она все еще сомневалась в своем великом счастье, и все эти неприятности казались ей платою за него. Казалось, что если сдохнет дорогой боров, поболеет Настя и произойдет другое печальное, то будущего сына ее никто не осмелится тронуть и обидеть. А за него не только дом и Настю, но и себя, и душу свою отдала бы она с радостью тому невидимому и беспощадному, кто требовал неустанных жертв.
Она похорошела, перестала бояться Ивана Порфирыча и в церкви, идя на свое место, гордо выпячивала округлившийся живот и бросала на людей смелые, самоуверенные взгляды. Чтобы как-нибудь не повредить ребенку, она перестала работать тяжелую домашнюю работу и целые дни проводила в соседнем казенном лесу, собирая грибы. Она очень боялась родов и по грибам загадывала, будут они благополучны или нет: большею частью выходило, что будут благополучны. Иногда среди прошлогодней слежавшейся листвы, темной и пахучей, под непроницаемым зеленым сводом высоких ветвей, она отыскивала семейку белых грибов; они тесно прижимались друг к другу и, темноголовые, наивные, казались ей похожими на маленьких детей и вызывали острую нежность и умиление. С той особенной, правдивой улыбкою, какая бывает у людей, когда у них хорошие мысли и они одни, она осторожно раскапывала вокруг корней волокнистую, серо-пепельную землю, садилась около грибов и долго любовалась ими, немного бледная от зеленых теней леса, но красивая, спокойная и добрая. Потом опять шла развалистой и осторожною походкой беременной женщины, и густой лес, в котором прятались маленькие грибки, казался ей живым, умным и ласковым. Один раз она захватила с собою Настю, но та прыгала, шумела, рыскала среди кустов, как развеселившийся волчонок, и мешала попадье думать, – и больше она ее не брала.
И зима проходила хорошо и спокойно. По вечерам попадья шила маленькие распашонки и свивальники, задумчиво расправляя материю белыми пальцами, озаренными ярким светом лампы. Она расправляла и разглаживала рукою мягкую ткань, точно ласкала ее, и думала что-то свое, особенное, материнское, и в голубой тени абажура красивое лицо ее казалось попу освещенным изнутри каким-то мягким и нежным светом. Боясь неосторожным движением спугнуть ее прекрасную и радостную думу, о. Василий тихо расхаживал по комнате, и ноги его в мягких туфлях ступали неслышно и нежно. Он посматривал то на уютную комнату, добрую и приятную, как друг, то на жену, и все было хорошо, как у людей, и от всего исходил радостный и глубокий покой. И душа его тихо улыбалась, и он не замечал и не знал, что во лбу его, где-то между бровями, безмолвно пролегает прозрачная тень великой скорби. Ибо и в эти дни покоя и отдыха над жизнью его тяготел суровый и загадочный рок.
На Крещенье, ночью, попадья благополучно разрешилась от бремени мальчиком, и нарекли его Василием. Была у него большая голова и тоненькие ножки и что-то странно-тупое и бессмысленное в неподвижном взгляде округлых глаз. Три года провели поп и попадья в страхе, сомнениях и надежде, и через три года ясно стало, что новый Вася родился идиотом.
В безумии зачатый, безумным явился он на свет.
IV
Прошел еще один год в тяжком оцепенении горя, и когда люди очнулись и взглянули вокруг себя – над всеми мыслями и жизнью их господствовал страшный образ идиота. Как прежде, топились печи, и велось хозяйство, и люди разговаривали о своих делах, но было нечто новое и страшное; ни у кого не стало охоты жить, и от этого все приходило в расстройство. Работники ленились, не делали что приказывают, и часто без причины уходили, а новых через два-три дня охватывала та же странная тоска и равнодушие, и они начинали грубить. Обед подавался то поздно, то рано, и всегда кого-нибудь не хватало за столом: или попадьи, или Насти, или самого о. Василия. Откуда-то появилось множество рваного белья и одежды, и попадья все твердила, что нужно заштопать мужу носки, и как будто штопала, а вместе с тем носки всегда были рваные, и о. Василий натирал ногу. И по ночам все ворочались и мучились от клопов; они лезли из всех щелей, на глазах ползали по стене, и ничем нельзя было остановить их отвратительного нашествия.
И куда бы люди ни шли, что бы они ни делали, они ни на минуту не забывали, что там, в полутемной комнате, сидит некто неожиданный и страшный, безумием рожденный. Когда они выходили из дому на свет, они старались не оборачиваться и не глядеть назад, но не могли выдержать и оборачивались – и тогда казалось им, что сам деревянный дом сознает страшную перемену: он точно сжался весь, и скорчился, и прислушивается к тому страшному, что содержится в глубине его, и все его вытаращенные окна, глухо замкнутые двери с трудом удерживают крик смертельного испуга. Попадья часто уходила в гости и целыми часами просиживала у дьяконицы, но и там не находила она покоя: как будто между идиотом и ею протягивались тонкие, как паутина, нити, и соединяли их прочно и навсегда. И если она уйдет на край света, скроется за высокими стенами монастыря или даже умрет – и туда, во мрак могилы, потянутся за нею тонкие, как паутина, нити и опутают ее беспокойством и страхом. И не были спокойны их ночи: бесстрастны были лица спящих, а под их черепом, в кошмарных грезах и снах вырастал чудовищный мир безумия, и владыкою его был все тот же загадочный и страшный образ полуребенка, полузверя.
Ему было четыре года, но он еще не начал ходить и умел говорить одно только слово: «дай»; был зол и требователен и, если чего-нибудь не давали, громко кричал злым животным криком и тянул вперед руки с хищно скрюченными пальцами. В своих привычках он был нечистоплотен, как животное, все делал под себя, на постилку, и менять ее было каждый раз мучением: с злой хитростью он выжидал момента, когда к нему наклонится голова матери или сестры, и впивался в волосы руками, выдергивая целые пряди. Однажды он укусил Настю; та повалила его на кровать и долго и безжалостно била, точно он был не человек и не ребенок, а кусок злого мяса; и после этого случая он полюбил кусаться и угрожающе скалил зубы, как собака.
Так же трудно было кормить его, – жадный и нетерпеливый, он не умел рассчитывать своих движений: опрокидывал чашку, давился и злобно тянулся к волосам скрюченными пальцами. И был отвратителен и страшен его вид: на узеньких, совсем еще детских плечах сидел маленький череп с огромным, неподвижным и широким лицом, как у взрослого. Что-то тревожное и пугающее было в этом диком несоответствии между головой и телом, и казалось, что ребенок надел зачем-то огромную и страшную маску.
И, как прежде, стала пить измученная попадья. Пила она много, до потери сознания и болезни, но и могучий алкоголь не мог вывести ее из железного круга, в середине которого царил страшный и необыкновенный образ полуребенка-полузверя. Как прежде, искала она в водке жгучих и скорбных воспоминаний о погибшем первенце, но они не приходили, и тяжелая, мертвая пустота не дарила ей ни образа, ни звука. Всеми силами разгоряченного мозга она вызывала милое лицо тихонького мальчика, напевала песенки, какие пел он, улыбалась, как он улыбался, представляла, как давился он и захлебывался молчаливой водой; и, уже казалось, становился близок он, и зажигалась в сердце великая, страстно желанная скорбь, – когда внезапно, неуловимо для зрения и слуха, все проваливалось, все исчезало, и в холодной, мертвой пустоте появлялась страшная и неподвижная маска идиота. И казалось попадье, что во второй раз похоронила она Васю и глубоко зарыла его; и хотелось разбить голову, в самых недрах которой нагло царит чуждый и отвратительный образ. В страхе она металась по комнате и звала мужа:
– Василий! Василий! Скорее сюда!
О. Василий приходил и молча усаживался в неосвещенном углу; и был так безучастен он и спокоен, как будто не было ни крика, ни безумия, ни страха. И глаз его не видно было, и под тяжелою надбровною аркою неподвижно чернели два глубоких пятна, от которых исхудавшее лицо казалось похожим на череп. Опершись подбородком на костлявую руку, он застывал в тяжелом молчании и неподвижности, пока успокоенная попадья с безумной старательностью загораживала дверь, за которой находился идиот. Она сдвигала столы и стулья, набрасывала подушки и платья, но этого казалось ей мало. И с силой пьяного человека она срывала с места тяжелый старинный комод и двигала его к двери, царапая пол.
– Стулья отодвинь! – запыхавшись, кричала она мужу, и тот молча вставал, освобождал место и снова садился в свой угол.
На минуту попадья успокаивалась и садилась, сдерживая рукой тяжелое дыхание, но тотчас же вскакивала и, откинув с уха распустившиеся волосы, с ужасом прислушивалась к тому, что грезилось ей за стеной.
– Слышишь? Василий, слышишь?
Два черных пятна неподвижно глядели на нее, и безучастный далекий голос отвечал:
– Там тихо. Он спит. Успокойся, Настя.
Попадья улыбалась радостно и светло, как ребенок, и нерешительно присаживалась на кончик стула.
– Правда? Спит? Ты сам видел? Не лги: лгать грешно.
– Да, видел. Спит.
– А кто же говорит там?
– Никого там нет. Это послышалось тебе.
И попадье становилось так весело, что она громко смеялась, шутливо покачивала головой и неопределенно отмахивалась – как будто хотел кто-то злой пошутить над нею и напугать, а она поняла его шутку и теперь смеется. Но без отзвука, как камень в бездонную пропасть, падал и тут же умирал одинокий смех, и еще кривился усмешкою рот, когда в глазах ее уже нарастал холодный страх. И такая тишина стояла, словно никогда и никто не смеялся в этой комнате, и с разбросанных подушек, с перевернутых стульев, таких странных, когда смотреть на них снизу, с тяжелого комода, неуклюже стоящего на необычном месте, – отовсюду глядело на нее голодное ожидание какой-то страшной беды, каких-то неведомых ужасов, доселе не испытанных еще человеком. Она оборачивалась к мужу, – в черном углу мутно серело что-то длинное, прямое, смутное, как призрак; она наклонялась ближе, – на нее смотрело лицо, но смотрело оно не глазами, сокрытыми черною тенью бровей, а белыми пятнами острых скул и лба. И, часто дыша громким дыханием страха, она тихо жаловалась:
– Вася! Я боюсь тебя. Какой ты, право! Иди сюда, к свету.
О. Василий покорно перешагнул к столу, и теплый свет лампы пал на его лицо, но не согрел его. Но оно было спокойно, на нем не было страха, и этого было достаточно для попадьи. Приблизив губы к самому уху о. Василия, она шепотом спросила:
– Поп, а поп! Ты помнишь Васю… того Васю?
– Нет.
– Ага! – обрадовалась попадья. – Тоже нет. И я нет. Тебе страшно, поп? А? Страшно?