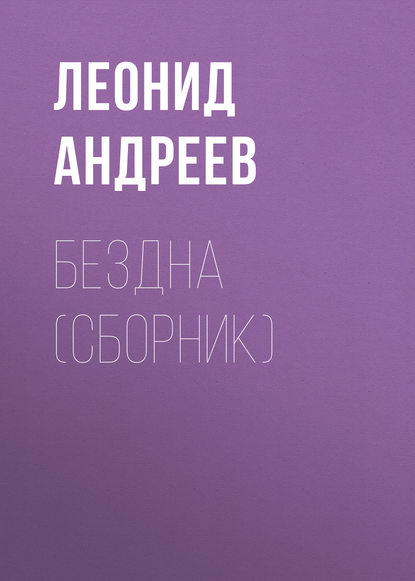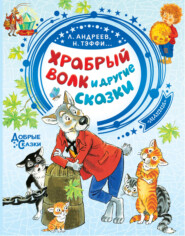По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бездна (сборник)
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну же!
Она вздрогнула, покраснела и, сделав испуганные глаза, моляще протянулась ко мне через стол, говоря:
– Антон Игнатьевич, душечка, сходите к доктору!
– Чего еще? – рассердился я.
– Ой, не кричите, боюсь! Ой, боюсь вас, душечка, ангельчик!
А она ведь ничего не знала ни о моих припадках, ни об убийстве, и я всегда был с нею ласков и ровен. «Значит, было во мне что-то такое, чего нет у других людей и что пугает», – мелькнула у меня мысль и тотчас исчезла, оставив странное ощущение холода в ногах и спине. Я понял, что Марья Васильевна узнала что-нибудь на стороне, от прислуги, или наткнулась на сброшенное мною испорченное платье, и этим совершенно естественно объяснялся ее страх.
– Ступайте, – приказал я.
Потом я лежал на диване в своей библиотеке. Читать не хотелось, во всем теле чувствовалась усталость, и состояние в общем было такое, как у актера после блестяще сыгранной роли. Мне приятно было смотреть на книги и приятно было думать, что когда-нибудь потом я буду их читать. Нравилась мне вся моя квартира, и диван, и Марья Васильевна. Мелькали в голове отрывки фраз из моей роли, мысленно воспроизводились движения, которые я делал, и изредка лениво проползали критические мысли: а вот тут лучше можно было сказать или сделать. Но своим импровизированным «погоди!» я был очень доволен. Действительно, это редкий и для тех, кто не испытал сам, невероятный образчик силы внушения.
– «Погоди!» – повторял я, закрыв глаза, и улыбался.
И веки мои стали тяжелеть, и мне захотелось спать, когда лениво, просто, как все другие, в мою голову вошла новая мысль, обладающая всеми свойствами моей мысли: ясностью, точностью и простотой. Лениво вошла и остановилась. Вот она дословно и в третьем, как было почему-то, лице:
«А весьма возможно, что доктор Керженцев действительно сумасшедший. Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший».
Три, четыре раза повторялась эта мысль, а я все еще улыбался, не понимая:
«Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший».
Но когда я понял… Сперва я подумал, что эту фразу сказала Марья Васильевна, потому что как будто был голос, и голос этот как будто был ее. Потом я подумал на Алексея. Да, на Алексея, на убитого. Потом я понял, что это подумал я, – и это был ужас. Взяв себя за волосы, уже стоя почему-то на середине комнаты, я сказал:
– Так. Все кончено. Случилось то, чего я опасался. Я слишком близко подошел к границе, и теперь мне остается впереди только одно – сумасшествие.
Когда приехали арестовать меня, я оказался, по их словам, в ужасном виде – взлохмаченный, в разорванном платье, бледный и страшный. Но господи! Разве пережить такую ночь и все-таки не сойти с ума не значит обладать несокрушимым мозгом? А ведь я только платье разорвал и разбил зеркало. Кстати: позвольте дать вам один совет. Если когда-нибудь одному из вас придется пережить то, что пережил я в эту ночь, завесьте зеркала в той комнате, где вы будете метаться. Завесьте так же, как вы завешиваете их тогда, когда в доме стоит покойник. Завесьте!
Мне страшно об этом писать. Я боюсь того, что мне нужно вспомнить и сказать. Но дальше откладывать нельзя, и, быть может, полусловами я только увеличиваю ужас.
Этот вечер.
Вообразите себе пьяную змею, да, да, именно пьяную змею: она сохранила свою злость; ловкость и быстрота ее еще усилились, а зубы все так же остры и ядовиты. И она пьяна, и она в запертой комнате, где много дрожащих от ужаса людей. И, холодно-свирепая, она скользит между ними, обвивает ноги, жалит в самое лицо, в губы, и вьется клубком, и впивается в собственное тело. И кажется, будто не одна, а тысячи змей вьются, и жалят, и пожирают сами себя. Такова была моя мысль, та самая, в которую я верил и в остроте и ядовитости зубов которой я видел спасение свое и защиту.
Единая мысль разбилась на тысячу мыслей, и каждая из них была сильна, и все они были враждебны. Они кружились в диком танце, а музыкою им был чудовищный голос, гулкий, как труба, и несся он откуда-то из неведомой мне глубины. Это была бежавшая мысль, самая страшная из змей, ибо она пряталась во мраке. Из головы, где я крепко держал ее, она ушла в тайники тела, в черную и неизведанную его глубину. И оттуда она кричала, как посторонний, как бежавший раб, наглый и дерзкий в сознании своей безопасности.
«Ты думал, что ты притворяешься, а ты был сумасшедшим. Ты маленький, ты злой, ты глупый, ты доктор Керженцев. Какой-то доктор Керженцев, сумасшедший доктор Керженцев!..»
Так она кричала, и я не знал, откуда исходит ее чудовищный голос. Я даже не знаю, кто это был; я называю это мыслью, но, может быть, это была не мысль. Мысли – те, как голуби над пожаром, кружились в голове, а она кричала откуда-то снизу, сверху, с боков, где я не мог ни увидеть ее, ни поймать.
И самое страшное, что я испытал, – это было сознание, что я не знаю себя и никогда не знал. Пока мое «я» находилось в моей ярко освещенной голове, где все движется и живет в закономерном порядке, я понимал и знал себя, размышлял о своем характере и планах, и был, как думал, господином. Теперь же я увидел, что я не господин, а раб, жалкий и бессильный. Представьте, что вы жили в доме, где много комнат, занимали одну только комнату и думали, что владеете всем домом. И вдруг вы узнали, что там, в других комнатах, живут. Да, живут. Живут какие-то загадочные существа, быть может, люди, быть может, что-нибудь другое, и дом принадлежит им. Вы хотите узнать, кто они, но дверь заперта, и не слышно за нею ни звука, ни голоса. И в то же время вы знаете, что именно там, за этой молчаливой дверью, решается ваша судьба.
Я подошел к зеркалу… Завесьте зеркала. Завесьте!
Потом я ничего не помню до тех пор, пока пришла судебная власть и полиция. Я спросил, который час, и мне сказали: девять. И я долго не мог понять, что со времени моего возвращения домой прошло только два часа, а с момента убийства Алексея – около трех.
Простите, гг. эксперты, что такой важный для экспертизы момент, как это ужасное состояние после убийства, я описал в таких общих и неопределенных выражениях. Но это все, что я помню и что могу передать человеческим языком. Например, не могу я передать человеческим языком того ужаса, который я все время тогда испытывал. Кроме того, я не могу сказать с положительною уверенностью, что все так слабо мною намеченное было в действительности. Быть может, этого не было, а было что-нибудь другое. Одно только я твердо помню – это мысль, или голос, или еще что-то:
«Доктор Керженцев думал, что он притворяется сумасшедшим, а он действительно сумасшедший».
Сейчас я пробовал свой пульс: 180! Это сейчас, только при одном воспоминании!
Лист седьмой
Прошлый раз я написал много ненужного и жалкого вздора, и, к сожалению, вы теперь уже получили и прочли его. Боюсь, что он даст вам ложное представление о моей личности, а также о действительном состоянии моих умственных способностей. Впрочем, я верю в ваши знания и в ваш ясный ум, гг. эксперты.
Вы понимаете, что только серьезные причины могли заставить меня, доктора Керженцева, открыть всю истину об убийстве Савелова. И вы легко поймете и оцените их, когда я скажу, что я не знаю и сейчас, притворялся ли я сумасшедшим, чтобы безнаказанно убить, или убил потому, что был сумасшедшим; и навсегда, вероятно, лишен возможности узнать это. Кошмар того вечера исчез, но он оставил огненный след. Нет вздорных страхов, но есть ужас человека, который потерял все, есть холодное сознание падения, гибели, обмана и неразрешимости.
Вы, ученые, будете спорить обо мне. Одни из вас скажут, что я сумасшедший, другие будут доказывать, что я здоровый, и допустят только некоторые ограничения в пользу дегенерации. Но, со всею вашею ученостью, вы не докажете так ясно ни того, что я сумасшедший, ни того, что я здоровый, как докажу это я. Моя мысль вернулась ко мне, и, как вы убедитесь, ей нельзя отказать ни в силе, ни в остроте. Превосходная, энергичная мысль – ведь и врагам следует отдавать должное!
Я – сумасшедший. Не угодно ли выслушать – почему?
Первою осуждает меня наследственность, та самая наследственность, которой я так обрадовался, обдумывая свой план. Припадки, которые были у меня в детстве… Виноват, господа. Я хотел утаить от вас эту подробность о припадках и писал, что с детства я был здоровяком. Это не значит, что в факте существования каких-то вздорных, скоро кончившихся припадков я видел какую-нибудь опасность для себя. Просто я не хотел загромождать рассказа неважными подробностями. Теперь эта подробность понадобилась мне для строго логического построения, и, как видите, я, не обинуясь, передаю ее.
Так вот. Наследственность и припадки свидетельствуют о моем предрасположении к психической болезни. И она началась, незаметно для самого меня, много раньше, чем я придумал план убийства. Но, обладая, как все сумасшедшие, бессознательной хитростью и способностью приноравливать безумные поступки к нормам здравого мышления, я стал обманывать, но не других, как я думал, а себя. Увлекаемый чуждой мне силой, я делал вид, что иду сам. Из остального доказательства можно лепить, как из воска. Не так ли?
Ничего не стоит доказать, что Татьяну Николаевну я не любил, что мотива истинного к преступлению не было, а был только выдуманный. В странности моего плана, в хладнокровии, с каким я его осуществлял, в массе мелочей очень легко усмотреть все ту же безумную волю. Даже самая острота и подъем моей мысли перед преступлением доказывают мою ненормальность.
Так, раненный насмерть, я в цирке играл,
Гладиатора смерть представляя…
Ни одной мелочи в своей жизни не оставил я неисследованной. Я проследил всю свою жизнь. К каждому своему шагу, к каждой своей мысли, слову я прилагал мерку безумия, и она подходила к каждому слову, к каждой мысли. Оказалось, и это было самым удивительным, что и до этой ночи мне уже приходила мысль: уж не сумасшедший ли я действительно? Но я как-то отделывался от этой мысли, забывал о ней.
И, доказав, что я сумасшедший, знаете вы, что я увидел? Что я не сумасшедший – вот что я увидел. Извольте выслушать.
Самое большое, в чем уличают меня наследственность и припадки, – это дегенерация. Я один из вырождающихся, каких много, какого можно найти, если поискать повнимательнее, даже среди вас, гг. эксперты. Это дает прекрасный ключ ко всему остальному. Мои нравственные воззрения вы можете объяснить не сознательной продуманностью, а дегенерацией. Действительно, нравственные инстинкты заложены так глубоко, что только при некотором уклонении от нормального типа возможно полное от них освобождение. И наука, все еще слишком смелая в своих обобщениях, все такие уклонения относит в область дегенерации, хотя бы физически человек был бы сложен, как Аполлон, и здоров, как последний идиот. Но пусть будет так. Я ничего не имею против дегенерации – она вводит меня в славную компанию.
Не стану я отстаивать и своего мотива к преступлению. Говорю вам совершенно искренно, что Татьяна Николаевна действительно оскорбила меня своим смехом, и обида залегла очень глубоко, как это бывает у таких скрытых, одиноких натур, как я. Но пусть это неправда. Пусть даже любви у меня не было. Но разве нельзя допустить, что убийством Алексея я просто хотел попытать свои силы? Ведь вы свободно допускаете существование людей, которые взлезают, рискуя жизнью, на неприступные горы только потому, что они неприступны, и не называете их сумасшедшими? Не осмелитесь же вы назвать сумасшедшим Нансена, этого величайшего человека истекающего столетия! В нравственной жизни есть свои полюсы, и одного из них пытался я достичь.
Вас смущает отсутствие ревности, мести, корысти и других нелепых мотивов, которые вы привыкли считать единственно настоящими и здоровыми. Но тогда вы, люди науки, осудите Нансена, осудите его вместе с глупцами и невеждами, которые и его предприятие считают безумием.
Мой план… Он необычен, он оригинален, он смел до дерзости, но разве он не разумен с точки зрения поставленной мною цели? И именно моя наклонность к притворству, вполне разумно вам объясненная, могла подсказать мне этот план. Подъем мысли, – но разве гениальность и вправду умопомешательство? Хладнокровие, – но почему убийца непременно должен дрожать, бледнеть и колебаться? Трусы всегда дрожат, даже когда обнимают своих горничных, и храбрость – разве безумие?
А как просто объясняются мои собственные сомнения в том, что я здоровый! Как настоящий художник, артист, я слишком глубоко вошел в роль, временно отождествился с изображаемым лицом и на минуту потерял способность самоотчета. Скажете ли вы, что даже среди присяжных, ежедневно ломающихся лицедеев нет таких, которые, играя Отелло, чувствуют действительную потребность убить?
Довольно убедительно, не правда ли, гг. ученые? Но не чувствуете ли вы одной странной вещи: когда я доказываю, что я сумасшедший, вам кажется, что я здоровый, а когда я доказываю, что я здоровый, вы слышите сумасшедшего.
Да. Это потому, что вы не верите мне… Но и я не верю себе, ибо кому в себе я буду верить? Подлой и ничтожной мысли, лживому холопу, который служит всякому? Он годен лишь на то, чтобы чистить сапоги, а я сделал его своим другом, своим богом. Долой с трона, жалкая, бессильная мысль!
Кто же я, гг. эксперты, сумасшедший или нет?
Маша, милая женщина, вы знаете что-то, чего не знаю я. Скажите, кого просить мне о помощи?
Я знаю ваш ответ, Маша. Нет, это не то. Вы добрая и славная женщина, Маша, но вы не знаете ни физики, ни химии, вы ни разу не были в театре и даже не подозреваете, что та штука, на которой вы живете, принимая, подавая и убирая, вертится. А она вертится, Маша, вы тупое существо, почти растение, и я очень завидую вам, почти столько же, сколько презираю вас.
Нет, Маша, не вы ответите мне. И вы ничего не знаете, это неправда. В одной из темных каморок вашего нехитрого дома живет кто-то, очень вам полезный, но у меня эта комната пуста. Он давно умер, тот, кто там жил, и на могиле его я воздвиг пышный памятник. Он умер, Маша, умер – и не воскреснет.
Она вздрогнула, покраснела и, сделав испуганные глаза, моляще протянулась ко мне через стол, говоря:
– Антон Игнатьевич, душечка, сходите к доктору!
– Чего еще? – рассердился я.
– Ой, не кричите, боюсь! Ой, боюсь вас, душечка, ангельчик!
А она ведь ничего не знала ни о моих припадках, ни об убийстве, и я всегда был с нею ласков и ровен. «Значит, было во мне что-то такое, чего нет у других людей и что пугает», – мелькнула у меня мысль и тотчас исчезла, оставив странное ощущение холода в ногах и спине. Я понял, что Марья Васильевна узнала что-нибудь на стороне, от прислуги, или наткнулась на сброшенное мною испорченное платье, и этим совершенно естественно объяснялся ее страх.
– Ступайте, – приказал я.
Потом я лежал на диване в своей библиотеке. Читать не хотелось, во всем теле чувствовалась усталость, и состояние в общем было такое, как у актера после блестяще сыгранной роли. Мне приятно было смотреть на книги и приятно было думать, что когда-нибудь потом я буду их читать. Нравилась мне вся моя квартира, и диван, и Марья Васильевна. Мелькали в голове отрывки фраз из моей роли, мысленно воспроизводились движения, которые я делал, и изредка лениво проползали критические мысли: а вот тут лучше можно было сказать или сделать. Но своим импровизированным «погоди!» я был очень доволен. Действительно, это редкий и для тех, кто не испытал сам, невероятный образчик силы внушения.
– «Погоди!» – повторял я, закрыв глаза, и улыбался.
И веки мои стали тяжелеть, и мне захотелось спать, когда лениво, просто, как все другие, в мою голову вошла новая мысль, обладающая всеми свойствами моей мысли: ясностью, точностью и простотой. Лениво вошла и остановилась. Вот она дословно и в третьем, как было почему-то, лице:
«А весьма возможно, что доктор Керженцев действительно сумасшедший. Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший».
Три, четыре раза повторялась эта мысль, а я все еще улыбался, не понимая:
«Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший».
Но когда я понял… Сперва я подумал, что эту фразу сказала Марья Васильевна, потому что как будто был голос, и голос этот как будто был ее. Потом я подумал на Алексея. Да, на Алексея, на убитого. Потом я понял, что это подумал я, – и это был ужас. Взяв себя за волосы, уже стоя почему-то на середине комнаты, я сказал:
– Так. Все кончено. Случилось то, чего я опасался. Я слишком близко подошел к границе, и теперь мне остается впереди только одно – сумасшествие.
Когда приехали арестовать меня, я оказался, по их словам, в ужасном виде – взлохмаченный, в разорванном платье, бледный и страшный. Но господи! Разве пережить такую ночь и все-таки не сойти с ума не значит обладать несокрушимым мозгом? А ведь я только платье разорвал и разбил зеркало. Кстати: позвольте дать вам один совет. Если когда-нибудь одному из вас придется пережить то, что пережил я в эту ночь, завесьте зеркала в той комнате, где вы будете метаться. Завесьте так же, как вы завешиваете их тогда, когда в доме стоит покойник. Завесьте!
Мне страшно об этом писать. Я боюсь того, что мне нужно вспомнить и сказать. Но дальше откладывать нельзя, и, быть может, полусловами я только увеличиваю ужас.
Этот вечер.
Вообразите себе пьяную змею, да, да, именно пьяную змею: она сохранила свою злость; ловкость и быстрота ее еще усилились, а зубы все так же остры и ядовиты. И она пьяна, и она в запертой комнате, где много дрожащих от ужаса людей. И, холодно-свирепая, она скользит между ними, обвивает ноги, жалит в самое лицо, в губы, и вьется клубком, и впивается в собственное тело. И кажется, будто не одна, а тысячи змей вьются, и жалят, и пожирают сами себя. Такова была моя мысль, та самая, в которую я верил и в остроте и ядовитости зубов которой я видел спасение свое и защиту.
Единая мысль разбилась на тысячу мыслей, и каждая из них была сильна, и все они были враждебны. Они кружились в диком танце, а музыкою им был чудовищный голос, гулкий, как труба, и несся он откуда-то из неведомой мне глубины. Это была бежавшая мысль, самая страшная из змей, ибо она пряталась во мраке. Из головы, где я крепко держал ее, она ушла в тайники тела, в черную и неизведанную его глубину. И оттуда она кричала, как посторонний, как бежавший раб, наглый и дерзкий в сознании своей безопасности.
«Ты думал, что ты притворяешься, а ты был сумасшедшим. Ты маленький, ты злой, ты глупый, ты доктор Керженцев. Какой-то доктор Керженцев, сумасшедший доктор Керженцев!..»
Так она кричала, и я не знал, откуда исходит ее чудовищный голос. Я даже не знаю, кто это был; я называю это мыслью, но, может быть, это была не мысль. Мысли – те, как голуби над пожаром, кружились в голове, а она кричала откуда-то снизу, сверху, с боков, где я не мог ни увидеть ее, ни поймать.
И самое страшное, что я испытал, – это было сознание, что я не знаю себя и никогда не знал. Пока мое «я» находилось в моей ярко освещенной голове, где все движется и живет в закономерном порядке, я понимал и знал себя, размышлял о своем характере и планах, и был, как думал, господином. Теперь же я увидел, что я не господин, а раб, жалкий и бессильный. Представьте, что вы жили в доме, где много комнат, занимали одну только комнату и думали, что владеете всем домом. И вдруг вы узнали, что там, в других комнатах, живут. Да, живут. Живут какие-то загадочные существа, быть может, люди, быть может, что-нибудь другое, и дом принадлежит им. Вы хотите узнать, кто они, но дверь заперта, и не слышно за нею ни звука, ни голоса. И в то же время вы знаете, что именно там, за этой молчаливой дверью, решается ваша судьба.
Я подошел к зеркалу… Завесьте зеркала. Завесьте!
Потом я ничего не помню до тех пор, пока пришла судебная власть и полиция. Я спросил, который час, и мне сказали: девять. И я долго не мог понять, что со времени моего возвращения домой прошло только два часа, а с момента убийства Алексея – около трех.
Простите, гг. эксперты, что такой важный для экспертизы момент, как это ужасное состояние после убийства, я описал в таких общих и неопределенных выражениях. Но это все, что я помню и что могу передать человеческим языком. Например, не могу я передать человеческим языком того ужаса, который я все время тогда испытывал. Кроме того, я не могу сказать с положительною уверенностью, что все так слабо мною намеченное было в действительности. Быть может, этого не было, а было что-нибудь другое. Одно только я твердо помню – это мысль, или голос, или еще что-то:
«Доктор Керженцев думал, что он притворяется сумасшедшим, а он действительно сумасшедший».
Сейчас я пробовал свой пульс: 180! Это сейчас, только при одном воспоминании!
Лист седьмой
Прошлый раз я написал много ненужного и жалкого вздора, и, к сожалению, вы теперь уже получили и прочли его. Боюсь, что он даст вам ложное представление о моей личности, а также о действительном состоянии моих умственных способностей. Впрочем, я верю в ваши знания и в ваш ясный ум, гг. эксперты.
Вы понимаете, что только серьезные причины могли заставить меня, доктора Керженцева, открыть всю истину об убийстве Савелова. И вы легко поймете и оцените их, когда я скажу, что я не знаю и сейчас, притворялся ли я сумасшедшим, чтобы безнаказанно убить, или убил потому, что был сумасшедшим; и навсегда, вероятно, лишен возможности узнать это. Кошмар того вечера исчез, но он оставил огненный след. Нет вздорных страхов, но есть ужас человека, который потерял все, есть холодное сознание падения, гибели, обмана и неразрешимости.
Вы, ученые, будете спорить обо мне. Одни из вас скажут, что я сумасшедший, другие будут доказывать, что я здоровый, и допустят только некоторые ограничения в пользу дегенерации. Но, со всею вашею ученостью, вы не докажете так ясно ни того, что я сумасшедший, ни того, что я здоровый, как докажу это я. Моя мысль вернулась ко мне, и, как вы убедитесь, ей нельзя отказать ни в силе, ни в остроте. Превосходная, энергичная мысль – ведь и врагам следует отдавать должное!
Я – сумасшедший. Не угодно ли выслушать – почему?
Первою осуждает меня наследственность, та самая наследственность, которой я так обрадовался, обдумывая свой план. Припадки, которые были у меня в детстве… Виноват, господа. Я хотел утаить от вас эту подробность о припадках и писал, что с детства я был здоровяком. Это не значит, что в факте существования каких-то вздорных, скоро кончившихся припадков я видел какую-нибудь опасность для себя. Просто я не хотел загромождать рассказа неважными подробностями. Теперь эта подробность понадобилась мне для строго логического построения, и, как видите, я, не обинуясь, передаю ее.
Так вот. Наследственность и припадки свидетельствуют о моем предрасположении к психической болезни. И она началась, незаметно для самого меня, много раньше, чем я придумал план убийства. Но, обладая, как все сумасшедшие, бессознательной хитростью и способностью приноравливать безумные поступки к нормам здравого мышления, я стал обманывать, но не других, как я думал, а себя. Увлекаемый чуждой мне силой, я делал вид, что иду сам. Из остального доказательства можно лепить, как из воска. Не так ли?
Ничего не стоит доказать, что Татьяну Николаевну я не любил, что мотива истинного к преступлению не было, а был только выдуманный. В странности моего плана, в хладнокровии, с каким я его осуществлял, в массе мелочей очень легко усмотреть все ту же безумную волю. Даже самая острота и подъем моей мысли перед преступлением доказывают мою ненормальность.
Так, раненный насмерть, я в цирке играл,
Гладиатора смерть представляя…
Ни одной мелочи в своей жизни не оставил я неисследованной. Я проследил всю свою жизнь. К каждому своему шагу, к каждой своей мысли, слову я прилагал мерку безумия, и она подходила к каждому слову, к каждой мысли. Оказалось, и это было самым удивительным, что и до этой ночи мне уже приходила мысль: уж не сумасшедший ли я действительно? Но я как-то отделывался от этой мысли, забывал о ней.
И, доказав, что я сумасшедший, знаете вы, что я увидел? Что я не сумасшедший – вот что я увидел. Извольте выслушать.
Самое большое, в чем уличают меня наследственность и припадки, – это дегенерация. Я один из вырождающихся, каких много, какого можно найти, если поискать повнимательнее, даже среди вас, гг. эксперты. Это дает прекрасный ключ ко всему остальному. Мои нравственные воззрения вы можете объяснить не сознательной продуманностью, а дегенерацией. Действительно, нравственные инстинкты заложены так глубоко, что только при некотором уклонении от нормального типа возможно полное от них освобождение. И наука, все еще слишком смелая в своих обобщениях, все такие уклонения относит в область дегенерации, хотя бы физически человек был бы сложен, как Аполлон, и здоров, как последний идиот. Но пусть будет так. Я ничего не имею против дегенерации – она вводит меня в славную компанию.
Не стану я отстаивать и своего мотива к преступлению. Говорю вам совершенно искренно, что Татьяна Николаевна действительно оскорбила меня своим смехом, и обида залегла очень глубоко, как это бывает у таких скрытых, одиноких натур, как я. Но пусть это неправда. Пусть даже любви у меня не было. Но разве нельзя допустить, что убийством Алексея я просто хотел попытать свои силы? Ведь вы свободно допускаете существование людей, которые взлезают, рискуя жизнью, на неприступные горы только потому, что они неприступны, и не называете их сумасшедшими? Не осмелитесь же вы назвать сумасшедшим Нансена, этого величайшего человека истекающего столетия! В нравственной жизни есть свои полюсы, и одного из них пытался я достичь.
Вас смущает отсутствие ревности, мести, корысти и других нелепых мотивов, которые вы привыкли считать единственно настоящими и здоровыми. Но тогда вы, люди науки, осудите Нансена, осудите его вместе с глупцами и невеждами, которые и его предприятие считают безумием.
Мой план… Он необычен, он оригинален, он смел до дерзости, но разве он не разумен с точки зрения поставленной мною цели? И именно моя наклонность к притворству, вполне разумно вам объясненная, могла подсказать мне этот план. Подъем мысли, – но разве гениальность и вправду умопомешательство? Хладнокровие, – но почему убийца непременно должен дрожать, бледнеть и колебаться? Трусы всегда дрожат, даже когда обнимают своих горничных, и храбрость – разве безумие?
А как просто объясняются мои собственные сомнения в том, что я здоровый! Как настоящий художник, артист, я слишком глубоко вошел в роль, временно отождествился с изображаемым лицом и на минуту потерял способность самоотчета. Скажете ли вы, что даже среди присяжных, ежедневно ломающихся лицедеев нет таких, которые, играя Отелло, чувствуют действительную потребность убить?
Довольно убедительно, не правда ли, гг. ученые? Но не чувствуете ли вы одной странной вещи: когда я доказываю, что я сумасшедший, вам кажется, что я здоровый, а когда я доказываю, что я здоровый, вы слышите сумасшедшего.
Да. Это потому, что вы не верите мне… Но и я не верю себе, ибо кому в себе я буду верить? Подлой и ничтожной мысли, лживому холопу, который служит всякому? Он годен лишь на то, чтобы чистить сапоги, а я сделал его своим другом, своим богом. Долой с трона, жалкая, бессильная мысль!
Кто же я, гг. эксперты, сумасшедший или нет?
Маша, милая женщина, вы знаете что-то, чего не знаю я. Скажите, кого просить мне о помощи?
Я знаю ваш ответ, Маша. Нет, это не то. Вы добрая и славная женщина, Маша, но вы не знаете ни физики, ни химии, вы ни разу не были в театре и даже не подозреваете, что та штука, на которой вы живете, принимая, подавая и убирая, вертится. А она вертится, Маша, вы тупое существо, почти растение, и я очень завидую вам, почти столько же, сколько презираю вас.
Нет, Маша, не вы ответите мне. И вы ничего не знаете, это неправда. В одной из темных каморок вашего нехитрого дома живет кто-то, очень вам полезный, но у меня эта комната пуста. Он давно умер, тот, кто там жил, и на могиле его я воздвиг пышный памятник. Он умер, Маша, умер – и не воскреснет.