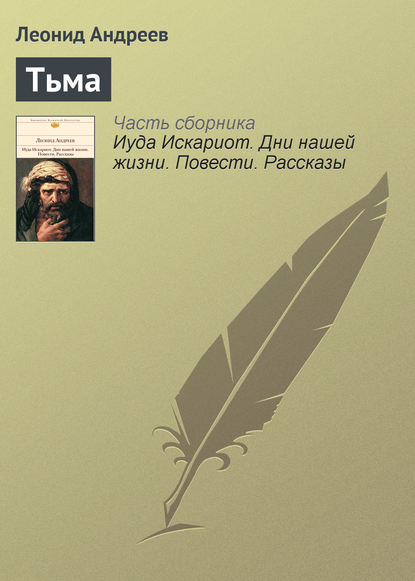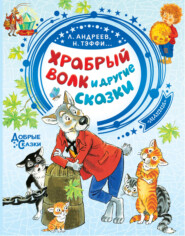По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тьма
Год написания книги
1907
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, хороший! Честный всю жизнь! Чистый! А ты? А кто ты, дрянь, зверюка несчастная?
– Хороший! – упивалась она восторгом.
– Да, хороший. Послезавтра я пойду на смерть для людей, а ты – а ты? Ты с палачами моими спать будешь. Зови сюда твоих офицеров. Я брошу им тебя под ноги: берите вашу падаль. Зови!
Люба медленно встала. И когда он, бурно взволнованный, гордый, с широко раздувающимися ноздрями, взглянул на нее, то встретил такой же гордый и еще более презрительный взгляд. Даже жалость как будто светилась в надменных глазах проститутки, вдруг чудом поднявшейся на ступень невидимого престола и оттуда с холодным и строгим вниманием разглядывавшей у ног своих что-то маленькое, крикливое и жалкое. Уже не смеялась она, и волнения не было заметно, и глаз невольно искал ступенек, на которых стоит она, – так сверху вниз умела глядеть эта женщина.
– Ты что? – спросил он, отступая, все еще яростный, но уже поддающийся влиянию спокойного, надменного взгляда.
И строго, с зловещей убедительностью, за которой чувствовались миллионы раздавленных жизней, и моря горьких слез, и огненный непрерывный бунт возмущенной справедливости, она спросила:
– Какое же ты имеешь право быть хорошим, когда я – плохая?
– Что? – не понял он сразу, вдруг ужаснувшись пропасти, которая у самых ног его раскрыла свой черный зев.
– Я давно тебя ждала.
– Ты меня ждала?
– Да. Хорошего ждала. Пять лет ждала, может, больше. Все они, какие приходили, жаловались, что подлецы они. Да подлецы они и есть. Мой писатель говорил сперва, что хороший, а потом сознался, что тоже подлец. Таких мне не нужно.
– Чего же тебе нужно?
– Тебя мне нужно, миленький. Тебя. Да, как раз такой. – Она внимательно и спокойно оглядела его с ног до головы и утвердительно кивнула бледной головой. – Да. Спасибо, что пришел.
Ему, ничего не боявшемуся, вдруг стало страшно.
– Чего же тебе надо? – повторил он, отступая.
– Надо было хорошего ударить, миленький, настоящего хорошего. А тех слюнтяев и бить не стоит, руки только марать. Ну вот и ударила, можно теперь и ручку себе поцеловать. Милая ручка, хорошего ударила!
Она засмеялась и действительно погладила и трижды поцеловала свою правую руку. Он дико смотрел на нее, и мысли его, такие медленные, теперь бежали с отчаянной быстротою; и уже приближалось, словно черная туча, то ужасное и непоправимое, как смерть.
– Ты что сказала… Что ты сказала?
– Я сказала: стыдно быть хорошим. А ты этого не знал?
– Не знал, – пробормотал он, вдруг глубоко задумавшись и даже как будто забывши про нее. Сел.
– Ну вот, узнай.
Говорила она спокойно, и только по тому, как ходила под рубашкой грудь, заметно было глубокое волнение, сдушенный тысячеголосый крик.
– Ну, узнал?
– Что? – очнулся он.
– Узнал, говорю?
– Погоди!
– Погожу, миленький. Пять лет ждала, а теперь пять минуток да не погодить!
Она опустилась на стул и, точно в предчувствии какой-то необыкновенной радости, заломила голые руки и закрыла глаза:
– Ах, миленький, миленький ты мой!..
– Ты сказала: стыдно быть хорошим?
– Да, миленький, стыдно.
– Так ведь это!.. – Он в страхе остановился.
– То-то и есть. Испугался? Ничего, ничего. Это сначала только страшно.
– А потом?
– Вот останешься со мною и узнаешь, что потом.
Он не понял.
– Как останусь?
Удивилась, в свою очередь, девушка:
– Да разве теперь, после этого, тебе можно куда-нибудь идти? Смотри, миленький, не обманывай. Ведь не подлец же и ты, как другие. А хороший – так останешься, никуда не пойдешь. Недаром же я тебя ждала.
– Ты с ума сошла! – сказал он резко.
Она строго поглядела на него и даже погрозила пальцем.
– Нехорошо. Не говори так. Раз пришла к тебе правда, поклонись ей низко, а не говори: ты с ума сошла. Это мой писатель говорит: ты с ума сошла! – так на то он и подлец. А ты будь честный.
– А вдруг не останусь? – мрачно усмехнулся он побелевшими искривленными губами.
– Останешься! – сказала она с уверенностью. – Куда тебе идти теперь? Тебе некуда идти. Ты честный. У подлеца дорог много, а у честного одна. Это я еще тогда поняла, как ты мне руку поцеловал. Дурак, думаю, а честный. Ты не обижаешься, что я дураком тебя сочла? Да ты сам виноват. Зачем ты невинность свою мне предлагал? Думал: дам ей невинность мою, она и отступится. Ах, дурачок, дурачок! Сперва я даже обиделась: что же это, думаю, даже за человека не считает; а потом вижу, что и это тоже от хорошести от твоей. И так ты рассчитывал: отдам ей невинность и оттого, что отдам, стану я еще невиннее, и получится у меня вроде как бы неразменный рубль. Я его нищему, а он ко мне назад. Я его нищему, а он ко мне назад. Нет, миленький, этот номер не пройдет.
– Не пройдет?
– Не-е-т, миленький, – протянула она. – Не на дуру напал. Я купцов-то этих достаточно насмотрелась: награбит миллионы, а потом даст целковый на церковь да и думает, что прав. Нет, миленький, ты мне всю церковь построй. Ты мне самое дорогое дай, что у тебя есть, а то невинность! Может, и невинность-то только потому и отдаешь, что самому не нужна стала, заплесневела. Невеста у тебя есть?
– Нет.
– А будь невеста и жди она тебя завтра с цветами, да с поцелуями, да с любовью – отдал бы невинность или нет?
– Не знаю, – сказал он задумчиво.
– Вот то-то и есть. Сказал бы: лучше жизнь мою возьми, а честь мою оставь! Что подешевле, то и отдаешь. Нет, ты мне самое дорогое отдай, такое, без чего сам не можешь жить, вот!