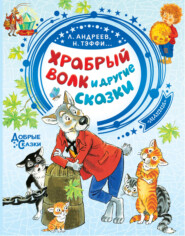По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Иго войны
Год написания книги
1916
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Устал я.
6 марта.
Получил письмо от Андрея Васильевича. Выразив глубокое сожаление о смерти Павлуши, которого он очень любил, Андрей Васильевич извиняется, что не может много писать, очень занят и утомлен, а по поводу некоторых моих идейных сомнений и вопросов преподает неожиданный совет: поучиться у немцев! Вот выдержка из его удивительного письма:
«Германцев я не люблю, но поучиться у них нахожу для всякого не лишним, и особенно это полезно вам, тыловым. Полюбуйтесь, как строят немцы здание своей государственной жизни, какая у них мудрая способность самоограничения: зная, что из предмета, имеющего неправильную форму, стены выйдут плохими и непрочными, каждый немец добровольно придает себе форму как бы кирпича, стирает углы и выпуклости, мешающие кладке. А кирпич по самой своей форме уже дает устойчивость, если же прибавить еще цементу, то и получится настоящая крепкая стена, а не дырявая загорожа, как у нас. Не сомневайтесь, а учитесь у них, Илья Петрович!»
Слушаю-с. То был клеточкой, а теперь предлагают превратиться в кирпич. О том же, что я человек, настойчиво рекомендуют позабыть и Ильей Петровичем величают только за неимением номера: кирпич номер такой-то.
Допустим, наконец, что я стал кирпичом, – а кто будет архитектором? А кто будет вором подрядчиком? И должен ли я лежать спокойно, если г. архитектор вместо церкви или дворца вдруг пожелает построить публичный дом? Нет, Андрей Васильевич, не клеточка я и не кирпич, а как был Ильей Петровичем, так до самой смерти им и останусь. Клеточек много и кирпичей много совершенно одинаковых, а я один и единственный, и другого такого Ильи Петровича на свете не было, нет и не будет. И сколько есть у меня силы, столько я и буду себя отстаивать, не поддамся войне, не дам себя обкорнать, как ворону, на вашем трескучем барабане!
Очень сожалею, что был нетактичен и позволил себе обратиться с вопросом к человеку, столь занятому военным делом и не могущему не презирать нас, героев тыла.
10 марта, вторник.
Ура! Нашими войсками взята крепость Перемышль, и весь Петроград полон ликования. Какой счастливый, какой прекрасный день!
Когда еще по телефону из редакции мы узнали в конторе, что Перемышль взят, меня охватила такая радость, что я немедленно оделся и отправился на улицу… и еще никогда я не видал наш Невский таким красивым и веселым. Шел очень сильный снег, валил белыми хлопьями и засыпал прохожих, но из-под этого белого покрывала отовсюду глядели розовые щеки и смеющиеся, особым светом сияющие глаза. Да – даже порозовел петроградец! Конечно, немедленно образовались толпы, запели гимн и отправились к дворцу манифестировать; к сожалению, я не мог принять участия, так как надобно было возвращаться в контору.
Но какая радость! И только сегодня я понял, до чего были тягостны все предшествующие дни и месяцы, до чего все мы привыкли к безнадежному и длительному сумраку жизни и стали уже считать его вполне естественным состоянием. Даже странно оглянуться назад, на вчерашний день, который еще так близко: сумрак, длинные дни и ночи, потерявшие смысл: днем не живешь, ночью не отдыхаешь. Дурацкий пасьянс, Инна Ивановна, грязная и беспорядочная квартира, темная тоска и темный страх за завтрашний день: как ни плох нынешний, а дай Господи, чтобы завтрашний не был хуже!
И в первый раз за всю войну (не знаю, чем это объяснить) я понял, что значит слово «победа». Да, это не кот наплакал, это возвышает, это всего человека со всеми его потрохами поднимает на необыкновенную высоту! Победа… и слово какое простое, и сколько раз его слышал и сам произносил, а только теперь вижу, что это за сокровище… победа! Так и хочется кричать на весь дом: победа, победа!
Само собою понятно, что я и до сих пор нахожусь в волнении. И странное дело: волнение радостное, а к глазам все время подступают горячие слезы: как вспомню, что мы русские, что есть на свете страна, которая называется Россия, так вдруг в носу и защиплет! Да что: увижу солдата на улице – и уже готов плакать от нежности к его серой шинели, улыбаюсь ему, глупейшим образом подмигиваю, вообще веду себя дурак дураком. Но все же особенно волнует меня слово «Россия», как будто и его я услыхал впервые, а раньше жил и не догадывался, что живу в России и сам русский.
Очень странное и, несмотря на слезы, радостно-волнующее ощущение.
И все мне представляется почему-то поле и рожь. Закрою глаза и вижу ясно, как в кинематографе: колышутся колосья, колышутся, колышутся… и жаворонок где-то звенит. Люблю я эту птичку за то, что не на земле поет она, не на деревьях, а только в небе: летит и поет; другая непременно должна усесться с комфортом на веточке, оправиться и потом уже запеть в тон с другими, а эта одна и в небе: летит и поет! Но я уж поэтом становлюсь: вдруг ни с того ни с сего заговорил о жаворонке… а, все равно, только бы говорить!
Еще одно странное обстоятельство: сегодня впервые после смерти Павлуши вслух и довольно много говорили о нем с Сашенькой. Как будто и его коснулась эта победа и он снова, в образе незримом, вернулся к нам, занял свое вечное место у нашего очага. Конечно, Сашенька немного поплакала, но это уже не были те одинокие и страшные слезы, от которых ночью дрожала и постукивала ее кровать. Решили завтра вместе сходить в церковь и отслужить панихиду; не люблю я этой процедуры, но в этот раз она мне кажется приятной и должной.
Наконец и еще одно приятное обстоятельство: в очень мягких выражениях я высказал Сашеньке мое неудовольствие по поводу лазарета, отнявшего ее у семьи; к удивлению, Сашенька не только не рассердилась и не вспыхнула, чего можно было ожидать по ее характеру, но обещала больше времени посвящать детям, жаловалась даже на усталость. Да и устала же она! – только сегодня я заметил, насколько она похудела и побледнела, сердце мое беспокойное. Но от этого стала она еще красивее, моя Сашенька, и теперь лишь я понял, что это так и надо для ее служения: когда умирает воин, то в образе склонившейся над ним прекрасной сестры он прощается со всею красотою и любовью, уносит этот образ, как бессмертную мечту. И кто знает, сколько умиравших воинов, уже готовых проклясть погубившую их землю, даровали ей оправдание и прощение за один взгляд прекрасных заплаканных глаз!
Первый раз не жалею я сегодня, что Сашенька на дежурстве около своих раненых, и я один. Есть у меня к тому же и занятие: все думаю о победе… вот счастье! Трудно сосчитать, сколько раз читал я это слово в романах, исторических книгах и вот теперь в газетах, а лишь сегодня сообразил я, что это за обольстительный зверь, за которым охотятся люди с сотворения мира. Это самое: победа. И все ее хотели, и все ее хотят, и вот она у нас. Опять бы, кажется, пошел на улицу и на весь город затрубил в медную трубу: вставайте, победа! победа!
11 марта.
Заболела Лидочка. Что это, Господи!
14 марта.
Умерла.
10 июня.
Два месяца не касался я дневника, совсем позабыл о его существовании. Но сегодня достал и вот уже полчаса сижу над ним, но не пишу, а все рассматриваю последнюю страницу, где написано одно слово: умерла. Да, умерла, одно только слово, а кругом него обыкновенная белая бумага, и на ней ничего нет, гладко. Боже мой, до чего ничтожен человек!
А я помню, как я тогда писал одно это слово. И что было бы, если бы вместо этой гладкой белой бумаги, на которой нет ничего, кроме слабых каракуль, начертанных чьей-то человеческой рукой, – было бы зеркало? Такое зеркало, которое навеки отразило бы лицо человека, писавшего со всем его отчаянием и нестерпимой душевной мукой! А что здесь видно?
Друг ты мой, дневник! На твоих страницах стоит имя Лидочки, которое есть частица ее существа, и ты мой единственный друг и товарищ.
11 июня.
Скончалась Лидочка 14 марта, через четыре дня после взятия Перемышля, а заболела на другой день после этого ликования; и всего ее страшной болезни было трое суток. Аппендицит в острой форме. Но выяснился аппендицит, когда уже поздно было, а целые сутки я не мог достать доктора: все заняты в лазаретах. Пришел какой-то с улицы, посмотрел, повертелся и успокоил, сказал, что надо еще подождать, а пока опасного нет. Ребенок умирает, а он сказал, что надо подождать – и мы ждали. Еще кланялись ему и извинялись с глупым лицом, что напрасно побеспокоили и оторвали от важнейших дел. И в душе отчаяние, а ждем, все неловко беспокоить – а вдруг действительно пустяки? Друг другу улыбаемся, ободряем и, как дураки, сами себя улыбками обманываем. Наконец пришел хирург из Сашиного лазарета (тоже неловко было звать!) и сказал, что аппендицит и что поздно.
И как я мог поверить, и как я мог ждать! Это мою Лидочку, мою деточку оставить лежать в жару, стонать, страдать, умирать доверчиво – и самому ждать! Подлость, безумие. Смотрю в ее черные доверчивые глазки, целую осторожно ее пересмякшие от жара губки, поправляю ей волосики разметавшиеся, раз даже с одеколоном вытер ей мокрым полотенцем личико – и будто все сделал, что надо, даже успокоение чувствовал. А как она страдала, как ей было больно. Ей, маленькой, и такую боль!
Правда, на третий день я был как бешеный, я кричал на докторов, я в морду бросал деньги и вопил: заплачу! заплачу! – я на глазах у какой-то дамы, думая ее разжалобить, бился головой о притолоку… даже не помню, где это, в какой-то приемной.
Да что!
Полдня я пропадал где-то, все искал, а дома уж и хирург два раза был, и уже сказал, что поздно. И операцию поздно, не стоит мучить ребенка. Потом я сам ее в гробик клал, нес от постельки до стола.
Вот и живу теперь, ничего, живу. На службу хожу, с знакомыми раскланиваюсь. Про войну читаю. Нас бьют и отовсюду гонят: и из Польши, и из Галиции. И Перемышль взяли обратно, даже поиграть как следует не дали. Жандарм Мясоедов Россию за 30 сребреников продал. Ничего! И не то чтобы ненавижу всех, а около того.
Но молчу! Молчу!
16 июня.
Как мне выразить мою тоску, мою тоску, мою тоску! Нет ни слов, нет ни слез, нет ни соображения, ни сознания. Так, что-то мучительное. Зачем-то в зеркало на себя подолгу смотрю, все стараюсь по лицу понять, что такое происходит. Смотрю и хныкаю, и ничего не уясняю. И там седой дурак, и здесь седой дурак. Поседел я.
17 июня.
Когда умирает высокая особа, то вывешивают черные флаги до самой земли, весь город затеняют, и всем понятно, что произошло. Или будь я настоящий человек с сильным голосом и даром высокого красноречия, я бы весь свет заставил плакать о моей Лидочке. А что я, ничтожество?.. только и могу, что мычать, как корова; да и корова больше себя покажет, всю ночь будет мычать, хоть спать кому-то не даст – а что я? Скулю себе полегоньку, повизгиваю за барской дверью… до первого барского окрика.
До чего я презренен. Клеточка!
Но позвольте вам рекомендовать один достопримечательный день, я бы памятник этому дню воздвиг, бронзовый монумент для назидания потомству. Это когда, пропустивши неделю после кончины Лидочки, я явился, как честный рабочий, в свою проклятую контору. Что и говорить, у нас все люди добрые и даже заметили, что я поседел: ах, как вы осунулись! И сочувствие горю выразили… но не то чтобы слишком сильно и неумеренно, а в привычной форме вежливости: ах, у вас, кажется, дочка умерла? Скажите, какая жалость!
Да, большая жалость. Ничего, работаю, пишу, считаю. Но вот заметили господа сочувствующие, что у меня на руке креп: ах, что такое? У вас опять кого-нибудь на войне убили?
– Нет, почему же непременно на войне? Это относится к моей умершей дочери Лидии.
– А!..
Разочаровались. А пан Зволянский в самой вежливой и приличной форме, под видом общего разговора, выразил ту мысль, что даже (даже!) и по убитым не следует носить траура, чтобы не действовать на общее настроение. Например: разрядился человек на прогулку, галстух и лакированные туфли, а тут на панели какая-то мрачная фигура седого человека в трауре… неприятно, все настроение портит! Конечно, такого примера г. Зволянский не осмелился привести, но смысл его совета был достаточно ясен: если уж по убитым, которые только и есть настоящие умершие, траура носить не следует, то чего заслуживает какая-то шестилетняя девочка, умершая своей естественной смертью. Мало ли их, этих шестилетних девочек!
И вообще в самой мягкой форме дали мне понять, что я совершаю явно неприличный поступок, вроде того, как если бы среди всеобщей трезвости я ханжи нализался. То же дали понять и встречные знакомые на Невском: ах, девочка!..
Но разве я порчу? Ни малейше. Наоборот, подчиняясь голосу общественного мнения, немедленно спорол креп и теперь ношу его в боковом кармане, чтобы никого не беспокоить и не портить чудесного настроения. Не смею беспокоить. Не имею ни малейшего права, как гражданин. Гражданин – или гадина?.. что-то я не совсем понимаю.
Но молчу! Молчу!
20 июня.
Льет дождь, а я хожу под зонтиком и размышляю, в чем самое главное? Самое главное в том, чтобы зарыть. Убить – это пустяки, это случается, главное, чтобы зарыть. Как только зарыт, так ничего не видно, и все хорошо. Нет, вы только подумайте, что бы это было: убито и зарыто сейчас что-то четыре или пять миллионов… и вдруг бы их не зарывали. Какая вонь? Сколько скелетов в разорванных мундирах! Какая тоска, и ничем не могу выразить ее. Все не то говорю, как дурак. И какой-то я длинноногий стал, иду и сам чувствую, что у меня длинные ноги. С ума я, что ли, схожу?
Того же числа, ночью.