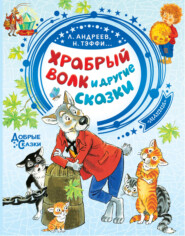По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Иуда Искариот
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Через несколько дней Пармен ушел. Григорий во все эти дни избегал всякого с ним разговора; Пелагея тоже не удерживала и только твердила: «Голова моя горькая»; Митька делал вид, что ничего не замечает. Только Санька заревела белугой, узнав, что дядя Безносый уходит.
– А с кем я у поле поеду! – вопияла она, энергично вцепившись в Парменов полушубок.
В эту ночь, первую, проведенную без Пармена, она долго хныкала, вспоминая свою горькую участь. Побитая матерью, она наконец заснула, но часто вскрикивала спросонья и стонала.
Пармену удалось пристроиться сторожем в Шаблыкинском лесу, начинавшемся почти у самого села. Долгую зиму Пармен слушал по ночам волчий протяжный вой, пока не подошла весна, принесшая с собой жизнь для всей природы. Пробудилась жизнь и в окаменелом Пармене. Проваливаясь по колена в мягкий снег, под которым стояла чистая, прозрачная вода, Пармен пошел в гости к Пелагее, но был встречен недружелюбно. Так и ушел он смущенный и потерянный. Но с тех, пор по ночам часто бродил он вокруг темной хаты.
Страстная неделя кончалась. Вечером в субботу Пармен отправился в церковь, захватив с собой кулич, спеченный ему одной бабой с села. От сторожки до Сабурова было версты две, сперва лесом, потом полем, покрытым оврагами и водомоинами. Когда Пармен вышел из дому, темень была такая, что хоть глаз выколи. Звезд и тех не видать было, хотя небо было безоблачно. Воздух стоял теплый, слегка сыроватый от испарений, поднимавшихся с оттаявшей, но не просохшей еще земли. Отовсюду окрест доносился тихий и ровный звук журчащей по межам воды. Разом на Пармена пахнуло свежестью и легким холодком: то потянуло ветром из глубокого оврага, еще наполовину полного снегом. На дне его, между отвесных стен, чуть слышно бурлила вешняя вода. Из беспросветно-черной дали доносился неясный гул и треск, то усиливаясь, то затихая, – это сталкивались, налезали друг на друга и ломались льдины на широко разлившейся Десне. Гул становился все яснее и громче, по мере того, как Пармен приближался к высокому нагорному берегу, по которому пролегала проезжая дорога. Вот уже ухо различает отдельные звуки: слышно, как бегут одна за другой веселые, бойкие струйки и вертятся, образуя водовороты; слышится, как разогнавшаяся большая льдина врезывается с треском в землю, выплескивая с собой волну. Берег круто заворачивает и открывает вид на церковь. Верх ее теряется в темном небе, но внизу ярко горят освещенные окна и дрожащими, колеблющимися пятнами отражаются на темной, движущейся поверхности многоводной реки, на много верст затопившей луговую сторону.
Церковь была полна. Тоненькие восковые свечи горели тусклым, желтоватым огоньком в душном, спертом воздухе, полном запаха овчины. Сквозь неопределенный шуршащий звук, издаваемый толпой, прорывался страстный молитвенный шепот. Пармен стал в притворе, куда чуть слышно доходил протяжный голос священника. Звучало радостное пение:
Христос воскрес из мертвых…
Сгрудившаяся в притворе, толпа всколыхнулась и сжалась еще более, давая дорогу причту. Прошел в светлых ризах священник; за ним, толкаясь и торопясь, беспорядочно двигались хоругвеносцы и молящиеся. Выбравшись из церкви, они быстро, почти бегом троекратно обошли ее. Радостно возбужденное, но нестройное пение то затихало, когда они скрывались за церковью, то снова вырывалось на простор. Надтреснутый колокол звонил с отчаянным весельем, и его медные, дрожащие звуки неслись, трепеща, в темную даль, через широкую, разлившуюся реку. Внезапно звон затих, и густое, дрожащее гуденье, замирая, позволяло слышать, как шумит река. Утомленное ухо ловило звук далекого благовеста.
– Это в Измалкове звонют, – сказал один из, мужиков, прислушиваясь. – Ишь как по воде-то доносит. По всей-то теперь земле звон идет…
И устремленным в темную даль глазам мужика представились бесконечные поля, широкие разлившиеся реки, и опять поля, и одинокие светящиеся церкви… И над всем этим, сотрясая теплый воздух, стоит радостный звон.
– Эх, – вздохнул мужик полной грудью. – Простору-то, простору-то и-и…
Пармен пошел домой еще до окончания церковной службы. В сторожке было холодно и пусто. Пармен разложил на столе кулич, яйца и хотел разговляться, но кусок не шел в горло. Поколебавшись, он снова оделся и пошел в село.
В Сабурове улицы были пустынны и темны, но во всех окнах светился огонь, придавая селу вид необычного скрытого оживления. Хлопнула калитка. Пармен не успел перейти на другую сторону и был остановлен толстым мужиком. Это был Митрофан, поповский работник. Растопырив руки и покачиваясь, он запел:
А-ах, прости-прощай, ты кра-са-вица,
Красота ль твоя мне не нра-а-витца.
Пармен молчал, а подгулявший Митрофан перешел в серьезный тон:
– Христос воскресе, Пармен Еремеевич.
– Воистину воскресе, Митрофан Панкратьич.
Мужики сняли шапки и троекратно поцеловались.
Митрофан надвинул шапку на затылок, вытер рукавом толстые губы и дружески заметил:
– Вишь ты, и рот-то у тебя какой липкий! А я, брат, того – выпил. Поп поднес. На, говорит, Митрофан, выпей от трудов праведных. Я и выпил. Отчего не выпить? Пойду к Титу и у Тита выпью, а поутру у Макарки выпью…
Митрофан наморщил брови, вычисляя, где еще и сколько ему придется выпить за эту неделю. Видимо, результат был утешительный: чело его разгладилось, и шапка как-то сама собой съехала на затылок. Простившись, Митрофан тронулся дальше.
Жучка заметалась и залаяла, когда Пармен подошел к хате Гнедых, но, увидав своего, завертелась волчком и в знак покорности и извинения легла на спину. Пармен погладил ее и осторожно вошел в калитку; он не хотел, чтобы с улицы заметили его.
Сквозь вымытые к празднику стекла оконца отчетливо видна была часть избы. Прямо против Пармена сидела за столом Санька и с надувшимися, как барабан, щеками, с трудом что-то пережевывала. Глаза ее слипались, но зубы неутомимо работали. Рядом сидела Пелагея. Ее худощавый и острый профиль со слегка втянутыми губами был полон праздничной торжественности. Других Пармену видно не было. Вероятно, было сказано что-нибудь очень веселое, потому что Пелагея засмеялась, а Санька подавилась, и мать несколько раз стукнула ее по горбу. Пармен пристально смотрел в одну точку не замечая, как была покончена еда и Пелагея начала убирать стол. Привел его в себя звук открывающейся двери. Захваченный врасплох Пармен отскочил в угол сарая и притаился, стараясь не дышать. На крыльцо вышел Григорий, посмотрел на посветлевшее небо, по которому зажглись запоздавшие звезды, почесался и продолжительно зевнул, оттолкнув от себя Жучку, заявившую о своем желании приласкаться. Оскорбленная собака направилась к Пармену и начала тереться около него.
– Цыц! Назад! – крикнул Григорий, но Жучка не шла. – Аль там кто есть? Мить, ты?
Пармен молчал, прижимаясь к стене. Григорий подошел и увидел сгорбившуюся фигуру.
– Кто это? Чего тебе тут надо? Тебе говорят!
Пармен обернулся. Григорий узнал его и, насупившись, хотел поворотить от него в избу, но вдруг у него в голове мелькнула мысль о поджоге, тотчас же перешедшая в уверенность.
Ты чего же здесь прячешься ночью? а?
Пармен молчал.
– А, так ты вот как! – схватил его Григорий за ворот и закричал: – Митька! Митька! Не, брат, не уйдешь.
Но Пармен и не думал уходить. Оцепенев, он бессмысленно смотрел на побледневшее от злости лицо Григория, потом на Митьку, который по настойчивому требованию брата стал шарить в его карманах, вытащив оттуда какую-то веревочку и коробок фосфорных спичек.
– А, поджигатель! – заорал Григорий. – Вот он твой благодетель-то, гляди! – крикнул он матери, с испугом смотревшей на эту сцену, и, рванув, стукнул Пармена головой о стену.
Санька, глаза которой хотели, казалось, выскочить из своих впадин, легонько охнула.
– Да что ты! – заговорил наконец Пармен. – Нешто я могу. Опамятовайся, бог с тобой.
– Еще поговори, гунявый!
– Так, значит, пришел, вот тебе крест. Не чужие ведь. Заместо отца был. Грех тебе, Гриша.
Гнев Григория начал было отходить, но последние слова снова разбудили его. Тряся Пармена за ворот, он грозил сейчас же отправить его в волостное правление и требовал, чтобы ему подали шапку и одежду.
Митрий лениво вступился:
– Пусти его, Григорий! Пущай идет.
– Головушка моя горькая! – запричитала Пелагея, скрываясь в избу и таща за собой Саньку, но та снова выскочила: у нее были свои мысли по поводу происходящего.
– Ну, так и быть, в последний раз, – отпустил Григорий ворот Парменова полушубка. – Только попомни мое слово: ежели еще раз увижу, безо всякого разговора колом огрею! Ну, чего стал! Иди, коли говорят!
Пармен поднял упавшую шапку и хотел что-то сказать, но трясущиеся губы не повиновались. Раза два открывался его рот, обнаруживая черные сгнившие зубы, но только одно слово вылетело оттуда:
– Про…щайте. Сгорбившийся, как будто на его вороте все еще лежала тяжелая рука Григория, шагал Пармен по улицам. Огоньки всюду погасли, и на селе царила тишина, – только один какой-то неудовлетворенный пес меланхолически завывал, восходя до самых высоких, чистых нот и спускаясь оттуда до легкого повизгивания. До солнца было еще далеко, но ночной мрак начал уже рассеиваться и сменился сероватым полусветом. Внезапно сзади Пармена послышался частый, дробный топот босых ног. Детский задыхающийся голос кричал, вытягивая, последние слова:
– Дядя Без-но-сай! Дядя Безно-сай!..
Пармен обернулся. С развевающейся вокруг ног юбчонкой бежала к нему Санька; кричать она была уже не в силах и только раскрывала рот.
Рядом с Санькой бежала вприпрыжку, куцая Жучка. Подлетев к Пармену Санька с разгону протянула к нему руку и из последнего запаса воздуха отрывисто шепнула:
– На.
– Что ты, Сашута? – наклонился к ней удивленный Пармен, не видя, что Жучка, перевернувшись на спину, также старается привлечь на себя его внимание! – Санька широко раскрыла рот и набрала воздуха для целой речи, но с первым же словом выпустила его:
– Тебе.
– Куда ты бежишь-то, стрекоза? – недоумевал все более Пармен.
– А с кем я у поле поеду! – вопияла она, энергично вцепившись в Парменов полушубок.
В эту ночь, первую, проведенную без Пармена, она долго хныкала, вспоминая свою горькую участь. Побитая матерью, она наконец заснула, но часто вскрикивала спросонья и стонала.
Пармену удалось пристроиться сторожем в Шаблыкинском лесу, начинавшемся почти у самого села. Долгую зиму Пармен слушал по ночам волчий протяжный вой, пока не подошла весна, принесшая с собой жизнь для всей природы. Пробудилась жизнь и в окаменелом Пармене. Проваливаясь по колена в мягкий снег, под которым стояла чистая, прозрачная вода, Пармен пошел в гости к Пелагее, но был встречен недружелюбно. Так и ушел он смущенный и потерянный. Но с тех, пор по ночам часто бродил он вокруг темной хаты.
Страстная неделя кончалась. Вечером в субботу Пармен отправился в церковь, захватив с собой кулич, спеченный ему одной бабой с села. От сторожки до Сабурова было версты две, сперва лесом, потом полем, покрытым оврагами и водомоинами. Когда Пармен вышел из дому, темень была такая, что хоть глаз выколи. Звезд и тех не видать было, хотя небо было безоблачно. Воздух стоял теплый, слегка сыроватый от испарений, поднимавшихся с оттаявшей, но не просохшей еще земли. Отовсюду окрест доносился тихий и ровный звук журчащей по межам воды. Разом на Пармена пахнуло свежестью и легким холодком: то потянуло ветром из глубокого оврага, еще наполовину полного снегом. На дне его, между отвесных стен, чуть слышно бурлила вешняя вода. Из беспросветно-черной дали доносился неясный гул и треск, то усиливаясь, то затихая, – это сталкивались, налезали друг на друга и ломались льдины на широко разлившейся Десне. Гул становился все яснее и громче, по мере того, как Пармен приближался к высокому нагорному берегу, по которому пролегала проезжая дорога. Вот уже ухо различает отдельные звуки: слышно, как бегут одна за другой веселые, бойкие струйки и вертятся, образуя водовороты; слышится, как разогнавшаяся большая льдина врезывается с треском в землю, выплескивая с собой волну. Берег круто заворачивает и открывает вид на церковь. Верх ее теряется в темном небе, но внизу ярко горят освещенные окна и дрожащими, колеблющимися пятнами отражаются на темной, движущейся поверхности многоводной реки, на много верст затопившей луговую сторону.
Церковь была полна. Тоненькие восковые свечи горели тусклым, желтоватым огоньком в душном, спертом воздухе, полном запаха овчины. Сквозь неопределенный шуршащий звук, издаваемый толпой, прорывался страстный молитвенный шепот. Пармен стал в притворе, куда чуть слышно доходил протяжный голос священника. Звучало радостное пение:
Христос воскрес из мертвых…
Сгрудившаяся в притворе, толпа всколыхнулась и сжалась еще более, давая дорогу причту. Прошел в светлых ризах священник; за ним, толкаясь и торопясь, беспорядочно двигались хоругвеносцы и молящиеся. Выбравшись из церкви, они быстро, почти бегом троекратно обошли ее. Радостно возбужденное, но нестройное пение то затихало, когда они скрывались за церковью, то снова вырывалось на простор. Надтреснутый колокол звонил с отчаянным весельем, и его медные, дрожащие звуки неслись, трепеща, в темную даль, через широкую, разлившуюся реку. Внезапно звон затих, и густое, дрожащее гуденье, замирая, позволяло слышать, как шумит река. Утомленное ухо ловило звук далекого благовеста.
– Это в Измалкове звонют, – сказал один из, мужиков, прислушиваясь. – Ишь как по воде-то доносит. По всей-то теперь земле звон идет…
И устремленным в темную даль глазам мужика представились бесконечные поля, широкие разлившиеся реки, и опять поля, и одинокие светящиеся церкви… И над всем этим, сотрясая теплый воздух, стоит радостный звон.
– Эх, – вздохнул мужик полной грудью. – Простору-то, простору-то и-и…
Пармен пошел домой еще до окончания церковной службы. В сторожке было холодно и пусто. Пармен разложил на столе кулич, яйца и хотел разговляться, но кусок не шел в горло. Поколебавшись, он снова оделся и пошел в село.
В Сабурове улицы были пустынны и темны, но во всех окнах светился огонь, придавая селу вид необычного скрытого оживления. Хлопнула калитка. Пармен не успел перейти на другую сторону и был остановлен толстым мужиком. Это был Митрофан, поповский работник. Растопырив руки и покачиваясь, он запел:
А-ах, прости-прощай, ты кра-са-вица,
Красота ль твоя мне не нра-а-витца.
Пармен молчал, а подгулявший Митрофан перешел в серьезный тон:
– Христос воскресе, Пармен Еремеевич.
– Воистину воскресе, Митрофан Панкратьич.
Мужики сняли шапки и троекратно поцеловались.
Митрофан надвинул шапку на затылок, вытер рукавом толстые губы и дружески заметил:
– Вишь ты, и рот-то у тебя какой липкий! А я, брат, того – выпил. Поп поднес. На, говорит, Митрофан, выпей от трудов праведных. Я и выпил. Отчего не выпить? Пойду к Титу и у Тита выпью, а поутру у Макарки выпью…
Митрофан наморщил брови, вычисляя, где еще и сколько ему придется выпить за эту неделю. Видимо, результат был утешительный: чело его разгладилось, и шапка как-то сама собой съехала на затылок. Простившись, Митрофан тронулся дальше.
Жучка заметалась и залаяла, когда Пармен подошел к хате Гнедых, но, увидав своего, завертелась волчком и в знак покорности и извинения легла на спину. Пармен погладил ее и осторожно вошел в калитку; он не хотел, чтобы с улицы заметили его.
Сквозь вымытые к празднику стекла оконца отчетливо видна была часть избы. Прямо против Пармена сидела за столом Санька и с надувшимися, как барабан, щеками, с трудом что-то пережевывала. Глаза ее слипались, но зубы неутомимо работали. Рядом сидела Пелагея. Ее худощавый и острый профиль со слегка втянутыми губами был полон праздничной торжественности. Других Пармену видно не было. Вероятно, было сказано что-нибудь очень веселое, потому что Пелагея засмеялась, а Санька подавилась, и мать несколько раз стукнула ее по горбу. Пармен пристально смотрел в одну точку не замечая, как была покончена еда и Пелагея начала убирать стол. Привел его в себя звук открывающейся двери. Захваченный врасплох Пармен отскочил в угол сарая и притаился, стараясь не дышать. На крыльцо вышел Григорий, посмотрел на посветлевшее небо, по которому зажглись запоздавшие звезды, почесался и продолжительно зевнул, оттолкнув от себя Жучку, заявившую о своем желании приласкаться. Оскорбленная собака направилась к Пармену и начала тереться около него.
– Цыц! Назад! – крикнул Григорий, но Жучка не шла. – Аль там кто есть? Мить, ты?
Пармен молчал, прижимаясь к стене. Григорий подошел и увидел сгорбившуюся фигуру.
– Кто это? Чего тебе тут надо? Тебе говорят!
Пармен обернулся. Григорий узнал его и, насупившись, хотел поворотить от него в избу, но вдруг у него в голове мелькнула мысль о поджоге, тотчас же перешедшая в уверенность.
Ты чего же здесь прячешься ночью? а?
Пармен молчал.
– А, так ты вот как! – схватил его Григорий за ворот и закричал: – Митька! Митька! Не, брат, не уйдешь.
Но Пармен и не думал уходить. Оцепенев, он бессмысленно смотрел на побледневшее от злости лицо Григория, потом на Митьку, который по настойчивому требованию брата стал шарить в его карманах, вытащив оттуда какую-то веревочку и коробок фосфорных спичек.
– А, поджигатель! – заорал Григорий. – Вот он твой благодетель-то, гляди! – крикнул он матери, с испугом смотревшей на эту сцену, и, рванув, стукнул Пармена головой о стену.
Санька, глаза которой хотели, казалось, выскочить из своих впадин, легонько охнула.
– Да что ты! – заговорил наконец Пармен. – Нешто я могу. Опамятовайся, бог с тобой.
– Еще поговори, гунявый!
– Так, значит, пришел, вот тебе крест. Не чужие ведь. Заместо отца был. Грех тебе, Гриша.
Гнев Григория начал было отходить, но последние слова снова разбудили его. Тряся Пармена за ворот, он грозил сейчас же отправить его в волостное правление и требовал, чтобы ему подали шапку и одежду.
Митрий лениво вступился:
– Пусти его, Григорий! Пущай идет.
– Головушка моя горькая! – запричитала Пелагея, скрываясь в избу и таща за собой Саньку, но та снова выскочила: у нее были свои мысли по поводу происходящего.
– Ну, так и быть, в последний раз, – отпустил Григорий ворот Парменова полушубка. – Только попомни мое слово: ежели еще раз увижу, безо всякого разговора колом огрею! Ну, чего стал! Иди, коли говорят!
Пармен поднял упавшую шапку и хотел что-то сказать, но трясущиеся губы не повиновались. Раза два открывался его рот, обнаруживая черные сгнившие зубы, но только одно слово вылетело оттуда:
– Про…щайте. Сгорбившийся, как будто на его вороте все еще лежала тяжелая рука Григория, шагал Пармен по улицам. Огоньки всюду погасли, и на селе царила тишина, – только один какой-то неудовлетворенный пес меланхолически завывал, восходя до самых высоких, чистых нот и спускаясь оттуда до легкого повизгивания. До солнца было еще далеко, но ночной мрак начал уже рассеиваться и сменился сероватым полусветом. Внезапно сзади Пармена послышался частый, дробный топот босых ног. Детский задыхающийся голос кричал, вытягивая, последние слова:
– Дядя Без-но-сай! Дядя Безно-сай!..
Пармен обернулся. С развевающейся вокруг ног юбчонкой бежала к нему Санька; кричать она была уже не в силах и только раскрывала рот.
Рядом с Санькой бежала вприпрыжку, куцая Жучка. Подлетев к Пармену Санька с разгону протянула к нему руку и из последнего запаса воздуха отрывисто шепнула:
– На.
– Что ты, Сашута? – наклонился к ней удивленный Пармен, не видя, что Жучка, перевернувшись на спину, также старается привлечь на себя его внимание! – Санька широко раскрыла рот и набрала воздуха для целой речи, но с первым же словом выпустила его:
– Тебе.
– Куда ты бежишь-то, стрекоза? – недоумевал все более Пармен.