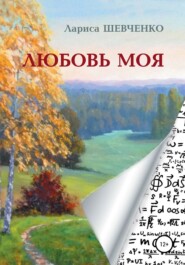По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Её величество
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Но слухи поползли. Вслед за первым известием как лавина с горы посыпались другие, еще более гадкие факты во всей их неприглядности и наготе. И во мне впервые шевельнулось чувство, о существовании которого в себе я не подозревала. Не описать, как разволновалась. Всем моим существом овладела мысль, которую я раньше, отчаянно переубеждая себя, силилась не допускать в свое сознание».
«Положение не из приятных. К сожалению, такой поддельной реальностью подменяют свою жизнь большинство людей. Рады обманываться, только бы сохранить иллюзию стабильности», – с суровой нотой в голосе заметила я. И спросила, интимно понизив голос:
«Послушай, Федька такой… темпераментный и горячий? Не верится что-то».
«Как бы тебе объяснить… Скорее… сладострастный, что ли. Моя душа просила исцеляющей чистоты и красоты отношений. А тут такое… Я боялась потерять рассудок от обрушившихся на меня бед. Ведь чем сильнее любишь, тем тяжелее выносить разочарование. Мне хотелось умереть, чтобы вся эта грязь сразу исчезла. Но дети… Кажется в Евангелие от Матфея написано что-то типа: бойся тех, кто не тело, а душу убивает», – тоскливо и обреченно, но терпеливо объясняла мне Эмма.
«Твое желание продолжать верить мужу в значительной степени продиктовано страхом перед оскорбительным для тебя знанием. Это обыкновенная самозащита. И ты, онемевшая от ужаса перед тем, что еще могут поведать коллеги, чуть не падала в обморок. А они потом, уже как бы в порядке вещей, просто, без выпендрежа докладывались? Преподносили факты, так сказать, пропущенные через собственное восприятие? – подталкивала я Эмму к откровенности. – Раскрывая глаза, осчастливливали… себя. Сволочи. Гадюшник, серпентарий! Это равносильно полостной операции без наркоза. Ох уж эти мне сплетни о семейных дрязгах и неурядицах! Врагу не пожелаю».
«Заронили и, указав на факты, укрепили подозрения, навели на страшные думы. И кто только не прикладывал к этому свои… языки! Сколько неловкости, стыда и боли причинили! В сердце стонала безысходность и отрешенность. В горле клокотала обида. И пошатнулся привычный мир. Я словно потерялась во времени. Мне не нужна была эта правда. От нее хотелось убежать, скрыться.
Оказывается, одна моя завистливая коллега вступила на тропу войны, стала тайной сообщницей моей свекрови. Вместе они с удовольствием сочиняли мои «романы» и докладывали о них моему мужу. Представляешь, их стараниями рождались сплетни, о которых знали все, кроме меня», – сокрушенно говорила Эмма и смотрела на меня взглядом женщины, которой внезапно открылось то, о чем она догадывалась с самого начала, но до сих пор упорно не хотела замечать, которая и теперь никак не могла примирить услышанное с желанием отказать ему в праве на существование, потому что в ней еще теплился ничтожно малый огонек надежды на то, что всё это несерьезно.
«Коллектив единомышленников! Нехристи. О эти горькие пилюли лжи и оговора, обернутые в тонкую оболочку правды! – демонстрировала я Эмме свою полную солидарность. – Ты знаешь, исследования показывают, что мужчины больше сплетничают. Начальники часто используют женщин для распространения своей гадкой информации. Особенно секретарей. Они просто «негласно» приказывают им «довести до сведения… общественности», чтобы все отвернулись от человека… И болтают мужчины больше. Женщинам некогда, у них масса домашних дел. Мужья моих подруг вечно «висят» на телефонах. Один из них жаловался мне: «Если в выходной никто не звонит, я нервничаю и сам ищу повод кому-нибудь звякнуть».
«Неведение иногда может уберечь от неприятностей и проблем. Но чаще – подвести, – вздохнула Эмма. – Фазиль Искандер, кажется, писал, что порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости. Что-то вроде того. И я не хотела даже слышать… Смешно надеяться, когда накрывает море грязи и лжи… Теперь внутри меня все пусто и безжизненно».
«А мне больше нравится фраза небезызвестной Фаины Раневской: «Я слышала о вас столько гадостей, что сразу поняла – вы замечательный человек». Она меня успокаивает. Ты сплоховала, когда не поверила коллегам, поэтому полное просветление у тебя не проявилось. Ты пребывала в дурмане, в любовном угаре. Я бы не стала ждать подтверждения своим подозрениям, а сразу бы взяла быка за рога. Уверенность в себе – вот твоя козырная карта, а ты ее не разыграла».
«Я думала, оболгали Федю, как лгут и сплетничают обо мне. Пеняла себе за мнительность. Мол, все это домыслы».
«Ну как же! Он составил твое счастье! Твои мозги затянуты паутиной наивности, как реставрируемый дом строительными лесами. Милая, прекраснодушная. А теперь не можешь оклематься. Я бы вмиг насела на Федьку и на сплетников и всё у всех выпытала. Не успокоилась бы, пока не вывела на чистую воду. И это не составило бы мне большого труда. Учись! Пойми, твоя жизнь не полигон для Федькиного тщеславия и не место, где он сбрасывает шкуру ягненка, превращаясь в волка», – резко выражала я Эмме свое неодобрение.
«И наступило в моей душе тихое бездонное отчаяние. Бесчувствие этого момента было передышкой перед агонией, чтобы я была в силах ее перенести. Потом я кинулась обзванивать подруг, и те тоже открывали мне глаза на неблаговидные поступки мужа. То был нескончаемый горестный день… Телефон раскалялся. Не могу передать, что со мной было в последовавшие за этим дни, когда всё вскрылось, и я впервые окончательно убедилась и поверила… Пол из-под ног уплывал, стены кружились перед глазами. И мои боги стали рушиться… и превращаться в прах… Судьба испытывает мои чувства на прочность? В чем моя ошибка? Почему моя семья рассыпалась? Я же всё делала для ее сохранения и укрепления!»
«Честь и хвала тебе за это!» – отвечала я Эмме.
«Разное мировоззрение, разные семейные ценности? Превратное понимание понятия «свобода» сыграло с Федей злую шутку, сделало из него подонка? – безмолвно вопрошала я сама себя. – Но свобода – не вседозволенность! Где вседозволенность, там безответственность. Может, это его метод проб и ошибок?.. Смогу ли я оправиться после такого стресса?.. Если понадобится, ради детей я всё проглочу и стерплю. Что мне еще остается? А он будет шагать по жизни с уверенностью праведника или… лунатика, не проявляя озабоченности по поводу моих переживаний?.. Что ему горечь моих тревог! Он не знает ценности радости, куска хлеба, счастливого утра… Он не станет переосмысливать свою жизнь».
И я говорила мужу:
«Умный человек должен уметь думать и распоряжаться свободой, прежде всего, во благо своей семьи. Жить можно по-разному: красиво, с пользой, с любовью, а можно, как сучонок… если понимать жизнь как свободу от порядочности, от обязанностей. Мои и твои подвиги, совершаемые на работе, скоро забудутся, а вот хорошие порядочные дети – наше бессмертие. Ради них мы живем. Мы им пример». Я открыто и прямо смотрела ему в глаза. Мне нечего было скрывать. Я чувствовала себя правой и потому уверенной.
Как жутко Федя молчал! Я терпеть не могла его обезображенное злостью лицо… Я считала, что супруги, помимо всего прочего, должны быть верными друзьями, делиться друг с другом и хорошим, и плохим. И моя мама говорила, что самый лучший секс бывает с тем, с кем и без секса хорошо. А Федя не понимал этого. Как-то задумалась над фразами: «она была ему другом», «она была ему подругой». У них абсолютно разный смысл!.. А у меня ни того, ни этого не было. Он дурачил меня, умело избегая разоблачения и виртуозно выпутываясь. Боже мой, через что я прошла!..
Потом я весьма опрометчиво подступилась к нему, мол, заслуживаю объяснения. А он врал и смеялся мне в лицо, мол, ты все время требуешь от меня какой-то непонятной правды. Дерзкий, вздорный, резкий, самодовольный, желчный, он даже лживо не демонстрировал душевные муки… Мерзавец! А я-то ему потворствовала, угождала, жалела… Больной, слабенький».
«Жалость мужчину оскорбляет. Так то мужчину…» – фыркнула я брезгливо.
«Только оказалось, что вся его жизнь – постоянная, ежедневная, ежечасная ложь. Это его суть. Он вне ее себя не представляет. Для него она естественна и необходима, как кожа.
И теперь я говорю себе: «Не познавший любви не знает смирения». Не раз я приставала к нему: «Откуда в тебе эта заносчивость? Что ожесточает тебя? Как ты огрубел! Что тебя делает таким неуживчивым? Подскажи. Я своей вины не вижу. Я не строила воздушных замков, когда мечтала о жизни, наполненной невыразимым счастьем. Я всё делаю для семьи с любовью и радостью. Поделись, в чем ты видишь свое счастье? Идет ли в твоей душе хотя бы подспудная работа или ты живешь бездумно… как бурьян?.. Когда же наконец произойдет твое пробуждение и прозрение?.. Наступит ли оно?» Я пыталась его понять. К чему только не прибегала, чтобы разговорить мужа! А он не желал объясняться, отталкивал меня грубостью».
«Тирания в природе человеческой, – усмехалась я. – Залюбленные мужчины или находящиеся под грозной пятой матерей особенно остро хотят, чтобы и у них кто-то был под каблуком: сотрудники или семья. Чаще всего жена. Это им важно. Вот и твой Федька, сам будучи марионеткой в руках своей коварной и властной матери, тебя избрал объектом для компенсации ущемленных амбиций. Да и вообще, мужчины влюбляются в яркие личности, но, женившись, хотят видеть в них тихих, послушных их воле и капризам домработниц, не высовывающих носа за порог. Как тебе их логика?»
«Вот и мое замужество обернулось незаслуженным наказанием, немыслимым страданием. Это чудовищно! От Феди одна горечь. Лучше бы не знать всей этой грязи, тогда я не терзалась бы мыслью о его жестокости. Кажется, Лариса из Липецка полушутя писала мне: «Не разрушай иллюзий и будешь счастлива». А меня теперь мучают приступы жгучей ревности и праведного гнева. Сама себе противной бываю, – затравленно бормотала Эмма. – Как он не понимает, что выбивает кирпичи из фундамента собственной семьи? Женился – кончай с сибаритской вольницей, будь готов к трудностям, а не бегай от них… Такой вот печальный гротеск моей семейной «идиллии». Получается, я путаюсь у Феди под ногами, мешаю жить так, как ему хочется. Выходя замуж, мы видим только гладкую скорлупу, а что обнаружим в один «прекрасный» день в ядре ореха, узнаём слишком поздно. А оно бывает гнилым и червивым. Как неподъемно тяжела, как велика цена надежды на счастье!»
«Другие грешат, но каются, обещают исправиться, а твой… хоть о стену лбом бейся. Тебе несказанно «повезло». Он, видите ли, не может сказать женщине «нет». А ты таки ему не женщина»!
«Знаешь, почему мне особенно тяжело? Если бы я до замужества предполагала, что Федя может быть таким, тогда это был бы мой выбор – оставаться с ним или нет… В моем сознании произошел страшный разрушительный переворот, и теперь на свое геройство, на жертвенность в семье я смотрю как на великую глупость. Мои «подвиги» являлись следствием безответственности, разгильдяйства, обыкновенной лени или даже подлости… мужа. Я считала, что каждый человек должен жить так, чтобы не создавать трудных ситуаций для другого, стараться избегать неприятностей, а не нарываться на них… Где тот предел, за которым недопустимо жертвовать теми, кто тебя любит? Для Федора его нет. Понимаешь, Инна, его поведение не пощечина мне, это избиение!»
«Эгоисты губят тех, кто их любит, – сурово выдала я свое четкое понимание этого вопроса. – Все люди знают, что они когда-нибудь умрут, но они же не думают об этом каждый день. И ты заставь себя не думать о Федьке. Перестань себя изводить. Небо не упадет на землю, если ты разведешься с ним. Всё надо делать вовремя, и ошибки исправлять тоже».
«Ради Феди я себя забывала. Работала за двоих, ничего от него не требовала… даже в постели. А он развлекался и насмехался над моей любовью и доверчивостью!»
«Да… ты не на коне… и даже не под ним, – грубо пошутила я и добавила: это называется злоупотребление доверием и наказывается по соответствующей статье уголовного кодекса. Мужчины нуждаются в жертвах и предпочитают, чтобы их приносили другие, которые потом… будут ими презираемы. Помнишь «Пышку» Мопассана? Тебя на «голодном пайке» держал?! Гад! Безудержный сокрушитель остывающих женских сердец! Лев в своем стареющем прайде! Я бы его так раскрутила! Вот было бы представление!» – самодовольно заявила я. (Еле удержалась от хвастливого, хотя и критического замечания о себе.)
«Не забывай: «я» должна быть с маленькой буквы, – недовольно заметила мне Эмма. – Я ведь почему на многое не претендовала? Считала: раз не хочет, значит, не может. Предъявлять претензии больному непорядочно. А если узнает, что я… не против еще… и еще, так ревновать станет сильнее. Ведь ему, чтобы попрекать, повода не надо. Представляешь, если бы я рассказывала ему о своих эротических снах и необузданных фантазиях… Я сама их стеснялась. Я привыкла отказывать себе в удовольствиях. Жалела и его, и себя. Правда, по-разному… А он избегал, берег себя для тех… Бред несу? Во мне ни крупицы рационального? Семья не место для борьбы двух эго. Супруги – это два локатора, способные принимать волны друг друга. Семья – главная точка опоры человека и место приложения всех его усилий. А Федя ничего не хотел слышать. Для него…»
Слезы брызнули из Эмминых глаз.
«Бедная, как убивается! Какая мука в голосе! Как она это все выносит! Как долго и отчаянно старалась она не показывать, что несчастна, что шокирована всем с ней происходящим! – Меня аж холодный пот прошиб. – Как кур в ощип попала. (А у нас в деревне говорили: как кур во щи.) Сгорает в печи чужой подлости, хитрости, сплетен и лжи, страдает, мучается ревностью. Надолго лишилась покоя. Будто над ней тяготеет проклятье. Собственно… в каком-то смысле да. Одна зависимость у нее сменилась другой. Отчим – муж. Не удается ей соединить в себе безумие любви и ревности с умом. Крутятся в голове и не находят выхода невыносимость совместного проживания, необходимость расстаться с мужем и невозможность его отпустить. И образование не сделало Эмму уверенной и независимой в собственной семье. И это единственное, что она в себе не преодолела, испортило ей жизнь. Исходя из соображений целесообразности, могла бы постараться. Не понимала? Не замечала за собой этой слабости? Мне это самой только что в голову пришло.
Тоскливо выть, скулить, упиваться своим горем? Да ни за что на свете я бы этого так не оставила! Я бы такому гаду сразу дала отставку. И что бы он вякнул мне в ответ? Я бы пресекла даже попытку унизить меня таким образом. В моих мужьях подобное не предполагалось, даже не подразумевалось. С моей-то способностью заездить любого. А Эмма не претендовала на многое. Как же, он больной. Боже мой! Так у нее не просто любовь к Федьке, а еще мощная, чуть ли не материнская жалость сильного человека к слабому существу! – поняла я вдруг. – А он, дрянь, так с ней обошелся… отблагодарил, гаденыш. Она теперь, наверное, похоронит себя в четырех стенах и до конца дней своих будет нянчить свою беду. Я понимаю – любовь! Только плохо, когда мир сужается до масштаба одного человека, тем более недостойного», – опять завел со мной беседу мой внутренний голос. Но в глаза Эмме я сказала другое.
«Ничего фатального. Успокойся. «Под каждой маской – тайна жизни». Ты же верила ему как себе. «Верить можно, только осторожно», без фанатизма, с оглядкой. «Все узнавать последней от других? Благодарю, мне этого не надо!» – пеняла я ей, пытаясь закончить наш отрывочно-бестолковый, непоследовательный разговор. – Разум в тебе должен во-зобладать. Ты обязана сделать выбор. В жизни так: или ты управляешь обстоятельствами, или они тобой. Всегда смотри не на воду, а на берега реки, на направляющие. А ты качаешься на волнах своих бед, как на качелях. Ты же умная, узнав Федькин характер, неужели не предвидела или хотя бы не предчувствовала появления в его жизни этих женщин?»
«Если уж быть до конца честной: мелькали такие мысли. Наверное, я боялась этого, потому и не хотела ни думать, ни признаваться себе, – созналась Эмма. – Счастье… Для меня это отсутствие постоянной душевной боли».
«Инна виртуозно, на ходу переделывает, подстраивая под ситуацию, и прозу и стихи», – молча восхитилась Аня. – Какая скрупулезная достоверность в ее воспоминаниях! Но не слишком ли она вдается в подробности?»
– И во взаимоотношениях между государствами, и в семьях важен диалог, – отреагировала Жанна на длинный рассказ Инны.
– Диалог с Федором? Это из области фантастики, – усмехнулась Лена. – Я не смогла, как Эмма, опуститься до выяснения отношений с Андреем. И не жалею. Зачем заставлять врать и этим унижать и себя, и его? Обнулила свою жизнь и полностью перезагрузила, взяв направление на распределение в другой город. Общалась с новыми друзьями, старых вспоминая по ночам.
– Взаимное уважение при полном отсутствии любви возможно во взаимоотношениях между странами, когда сила если и не используется, то демонстрируется или хотя бы обозначается. В семьях это не работает, потому что разумное на бытовом уровне не совпадает с разумным на уровне договаривающихся сторон в масштабах планеты Земля. В семьях главное не пудрить друг другу мозги и не мешать жить. И еще помнить, что любовь и дружба – это не слова, а поступки, – рассмеялась Инна и опять принялась рассказывать об Эмме.
– «Ты же знаешь, женщина всегда стремится к организованности в жизни, к определенности и логической завершенности в отношениях с мужчиной», – печально говорила мне Эмма.
«Будь он мужем или любовником», – шутливо продолжила я ее мысль, сбивая трагической накал откровений.
«А нужна ли эта определенность мужчине?»
«В каком-то смысле да. Хотят иметь жену, любовницу и комфорт в доме», – съязвила я.
«Я не хотела поддаваться обстоятельствам, пыталась относить свои чувства к разряду порочных, укоряла себя, стремилась не воскрешать в памяти плохие моменты. Но возникало упадочное настроение, переходящее в болезнь, в депрессию, и я забывалась в мучительном желании провалиться сквозь землю и сгинуть. Душа металась в путанице страстей и обид. А Федор изолгался. Он патологически неверен. (Боже мой, какой в ней запас доброты и монашеского смирения!) Иногда во мне шевелились недобрые надежды. Было, все было. Потом упрекала себя. Я так хотела сделать мужа счастливым, потому что, любя, была счастлива. Как больно терять любовь! Я – стыдно признаться – столько лет внимала лживым речам Федора, вверяла себя в руки подонка. Но «всюду клевета сопутствовала мне». Как непростительно я была слепа!»
«Соврет – недорого возьмет, – подтверждала я. – Из классики известно, что ложь и фальшь – атрибуты светского человека! – ерничала я, пытаясь избавить Эмму от слез. – Я, недолго думая, как фурия на мужа набросилась бы, а ты миндальничаешь».
«Мощный поток любви, переполнявший меня сознанием неизбежности и правоты, иссяк. Я не знаю, как дальше распорядиться своей семейной жизнью. Я ни о чем не могу думать, кроме обиды. Она навсегда прописалась в моем сердце. Отчуждение, бесчувствие мужа губят меня. Его мысли мне недоступны. Он то скандалит, то изводит своей угрюмостью или высокомерной занудливостью. Его жестокие слова впиваются мне в сердце, впитываются в кровь. Теперь я понимаю, что его упрямство – не признак ума, а неумение и нежелание находить компромиссы. И то, что он никогда не извиняется, вовсе не говорит о его чувстве собственного достоинства, а скорее о его слабости и дурном самолюбивом характере, – вернулась Эмма к «излюбленной» теме. – Сколько раз просила Федю: спокойно сознайся, что был не прав, учти свои ошибки и постарайся их не повторять. Это же так просто! Каждый человек имеет право на ошибки и на их исправление. Разве можно унизить себя откровенным признанием!» Будь честным хотя бы с самим собой. Ложь, как ее не прячь, всегда найдет брешь, чтобы просочиться, а потом расцвести пышным букетом.
У меня на работе был очень странный доцент. Нам в институт периодически поставлялись приборы, и я их распределяла по лабораториям. Бывало, предложу ему что-нибудь приличное, а он выламываться начинал, чтобы я его упрашивала, хотя прибор ему очень требовался. Первое время я удивлялась его манере, но уговаривала, но как-то рассердилась и решила проучить. Не нравится, не надо. При нашем-то дефиците другие с радостью возьмут. Как говорится: с руками и ногами оторвут. Такое происходило не раз, но доцент так и не преодолел себя. Потом выпрашивал эти приборы у других преподавателей во временное пользование, но не сдавался. Абсолютно не логичное поведение неглупого человека. Вот и Федя такой. То ли не хочет, то ли не может просить прощения? Не пойму, он сам придумал этот способ общения, мама ли внушила или он уже сидел в его подкорке?»
«Одни грубят, потом извиняются, другие губят женам здоровье, потом их лечат. А некоторые ни того, ни другого не хотят делать. И неизвестно, что хуже. Один мой знакомый признает свои ошибки с обезоруживающей откровенностью, но это нисколько не мешает ему продолжать творить безобразия», – рассказала я Эмме. И тут же думала о другом: «Моя линия жизни похожа на пилу. Я сама ее выстроила своим несдержанным характером. У Лены она как синусоида малой амплитуды с двумя мощными отрицательными всплесками. Но у нее наблюдается раздвоение и несовпадение графиков карьерного роста и личного счастья. А какую картину представляет собой линия жизни Эммы?»
«Обидно. За что я плачу столь непомерную цену? Я разучилась улыбаться, мои глаза утратили блеск, я превратилась в мумию».
«За всё, что мы любим, приходится платить. Но обиды длиной в целую жизнь? Это неправильно! Разве есть такие печали, чтобы вовсе перестать радоваться? Никакой мужчина не стоит такой жертвы. Не улыбаться противоестественно, чуждо самой Природе. Даже травинки после дождя улыбаются капельками дождя, – возмущалась я. – Желание и умение радоваться заложено в человеке».