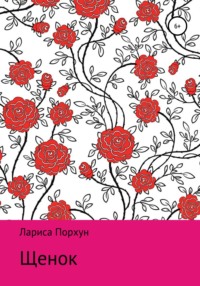Женский клуб
– Как ты можешь… – Лидия резко села в кровати, свесив худые, сзастарелым варикозом ноги, – Ты прекрасно знаешь, что мне не нужно какого-то вознаграждения, да я и не пользовалась украшениями этими ни разу… Геннадий, язвительно улыбаясь, и глядя на неё с неприятно-царапающей жалостью, перебил:
– Очень жаль…– он ещё раз окинул её сверху вниз колючим взглядом, – Печально, говорю, что тебе всё равно, как ты выглядишь…Ты совсем перестала следить за собой, почему, спрашивается? Напрасно ты полагаешь, что это твоё личное дело, нет, милая, это касается не только тебя, но и твоего мужа, твоих детей. Ты думаешь, мне всё равно, что будут говорить о моей жене, а значит и обо мне? Нет, мне совсем не всё равно, встречают, как и прежде по одёжке, ясно тебе? Да и провожают тоже. Ничего не изменилось!
– Гена, я … – растерянно попыталась вставить Лидия, но её муж вскочил и протестующе замахал руками:
– Нет уж, дай мне закончить, будь добра, я и так долго терпел, наблюдая, как ты сознательно превращаешься из молодой, цветущей женщины в слабое, болезненное и стремительно увядающее подобие себя, – он выразительно покачал головой, – Куда подевался твой знаменитый румянец во всю щёку? Сколько я намекал, предлагал, наконец, говорил в открытую, о том, на что тебе следует обратить внимание в одежде, причёске, манере себя вести, всё без толку… Насколько я знаю и мать, царство небесное, не раз пыталась со своей стороны хоть как-то тебя направить, но всё без толку.
– Анна Фёдоровна никогда не говорила, что с моим внешним видом что-то не так, – вставила Лидия, – Геннадий махнул рукой и подошёл к окну, – Мама была деликатным, интеллигентным человеком, неужели ты думаешь, она позволила бы себе напрямую указывать, как тебе следует поступать? А о том, что ты совершенно не понимаешь намёков она и подумать не могла. Геннадий развернулся к жене, глубоко засунув руки в карманы мягкой пижамной куртки:
– Почему, спрашивается, ты перестала красить волосы? Раз у тебя такое количество седины, тебе не кажется, что с этим не только можно, но и нужно что-то делать? Неужели, зеркало тебе ничего не подсказывает?
При этих словах Лидия вздрогнула и со страхом посмотрела на мужа. Он ничего не заметил, или не придал этому значения:
– Зачем ты носишь эти длинные старушечьи юбки? Прячешь вены на ногах? Но ведь это не выход, к тому же проблема это тоже решаемая. Геннадий снова покачал головой и, как бы в полном недоумении развёл руками:
– Ничего не понимаю! Всю жизнь, сколько я тебя знаю, ты лечишься то от одной непонятной болезни, то от другой, а то, что действительно важно, остаётся вне зоны твоего внимания. Вместо того, чтобы записаться на приём к сосудистому хирургу, ты горстями глотаешь лекарства, вместо стоматолога, ходишь по бабкам-ведуньям и завариваешь какую-то бурду… Так ладно бы сама, а то ведь ты и Андрея за собой во всё это тащишь.
Лидия, прикрыла ноги покрывалом, и, сложив подрагивающие руки на коленях, смотрела куда-то в сторону. Он остановился напротив жены и, вздохнув, устало сказал:
– Ну, вот опять… Что с тобой, женщина? Снова что-то увидела? Лидия медленно покачала головой и ничего не ответила. Геннадий, перекатываясь с пяток на носки и обратно, после паузы, заметил:
– А знаешь, не удивительно, что наш младший сын такой болезненный родился, конечно, ты ведь беременная, то рыдала, то кричала ночами, как заполошная. Лидия в немом, умоляющем бессилии подняла на него глаза:
– Я знаю, что виновата перед нашим сыном, и перед тобой, Гена… Я всегда старалась быть тебе хорошей женой, но, видно, не сумела, прости…Но знаешь, в нашей жизни от нас мало, что зависит…Ничтожно мало… Геннадий поморщился, как от чего-то такого, что давно, с уныло-монотонной регулярностью отравляло ему жизнь.
– Прекрати! – отрезал он, – Сейчас только твоего псевдодуховного бреда не хватало, – Геннадий прошёл к своей кровати, сохраняя недовольно-брезгливое выражение лица, быстро лёг и выключил ночник.
Сестра Татьяна позвонила в воскресенье после обеда, когда Лидия собирала пакет, чтобы везти его Андрею в больницу: зелёные яблоки, которые он терпеть не может, но они ему нужны, баночка свежесваренного куриного супчика, тщательно обёрнутая в два хлопчатобумажных полотенца, пирожки с картошкой, его любимые, и кое-что по мелочи: йогурт, творожок, и, конечно, немного шоколадных конфет, тайная слабость, которой он сам ужасно стеснялся. Андрюша, несмотря на свой солидный (19 лет!) возраст и принадлежность к сильному полу, являлся безоговорочным сладкоежкой.
– Лида, я вечером долго разговаривала с Колиной женой, и просто в ужасе, – как всегда, с места в карьер, начала Татьяна, – Если бы не было так поздно, я бы ещё вчера тебе позвонила… Возмущению моему нет предела, я всю ночь не спала… Лидуша, милая, что ты делаешь? – трагическим голосом, буквально в лоб спросила Татьяна. Лидия не могла не улыбнуться. Она так и представила свою младшую сестрёнку, патетически закатывающую глаза, и двигающую при этом, вверх вниз кончиком вздёрнутого крапчатого носа, что всегда являлось у неё признаком большого душевного волнения. И не важно, что младшей сестрёнке было уже сорок два года, и это была дородная, грузная женщина, более десяти лет работающая главным бухгалтером в строительной организации, к тому же, мать троих детей, и бабушка двух внуков.
– Что ты имеешь в виду? Конкретно сейчас разговариваю с тобой, – делая вид, что она совершенно не понимает о чём идёт речь, ответила ей Лидия, – А ещё собираюсь к Андрею в больницу, он уже неделю лежит в нашей кардиологии. Татьяна издала короткий невнятный звук, который можно было истолковать, как сочувствующее переживание, тревожную жалость, и, одновременно, плохо скрываемое нетерпение:
– Да нет же, я имею в виду, то, что ты разрешила Кольке жить в твоей комнате, – Татьяна с трудом перевела дух, будто только что вынырнула после длительного заплыва, – Ли-да! – по слогам, громко отчеканила сестра, – Наш брат – игроман! Ты отдаёшь себе отчёт, что это значит? Это вообще не лечится нигде и никогда, понимаешь? Это приговор! Опомнись, Лидуша, милая, ты, что хочешь остаться совсем без ничего? Кроме того, через год Пашка выходит, он тебе жизни не даст в этой квартире, и что тогда, куда ты пойдёшь? Лидия вздохнула, пытаясь найти какие-то правильные слова, но заранее чувствовала всю бессмысленность этого, так как знала, что у неё практически нет шансов, на то, чтобы убедить сестру в своей правоте. Лидия не сможет отшутиться или как-то увильнуть от прямых вопросов сестры, даже если бы и захотела, не её это. К тому же, такой подход может привести к ещё одной серьёзной размолвке, а Лидия боялась, что на новое восстановление отношений могут потребоваться определённые ресурсы, которыми она уже не располагала. И главный среди них – время. Поэтому, бесшумно набрав полную грудь воздуха, Лидия медленно выдохнула, глянула на часы, висящие над холодильником, и мягким, но уверенным голосом произнесла:
– Танечка, хорошая моя, ты правильно сказала, это наш брат…А куда он пойдёт? Жена выгнала, подала на развод, её можно понять, она немного радости с ним видела. Конечно, если человек детские вещи уже из дому выносил, чуть без квартиры их не оставил. А ей ещё детей поднимать, и как, спрашивается? Но и его я не могу бросить, родителей наших нет, а я старшая, понимаешь? И потом, он очень хочет вернуть семью, он сейчас проходит курс лечения…
– Лида, Лида, какая же ты наивная, – перебила Татьяна, – да он сколько курсов этих прошёл уже, толку от них… И конечно, ты платишь за всё, так? Мало того, что Пашкину жену с ребёнком на шею себе посадила, ещё и братец там же расположился…
– Во-первых, Таня, Николай работает, зря ты так…– Лидия ещё раз посмотрела на часы, – Обидно, конечно, что на прежнем месте восстановиться не получилось, Коля отличный специалист, а вынужден работать охранником, но это временно, всё наладится, я уверена. Повисло молчание, которое было таким выразительным и тяжёлым, что Лидия первая не выдержала:
– И насчёт Павлика, ну оступился, с кем ни бывает…
– Со мной не бывает, с тобой не бывает, и ещё с огромным количеством людей не бывает, – взорвалась Татьяна, – Ничего себе, тебя послушать, уши вянут, ей-Богу… Ну подумаешь, подрался, или может пару раз ножиком помахал, ой, ну нечаянно задел товарища, подумаешь, он же не со зла, а просто выпимши был…Так что ли? Что ты, в самом деле, как блаженная, Лида… В трубке раздалось частое, густое сопение, предвещающее скорые слёзы.
– Танюшка, родная моя, да что ж ты так расстраиваешься-то, ну кто я такая, чтобы кого-то судить, так вышло, что ж теперь делать. И, разумеется, когда Павлик выйдет из колонии, он вернётся сюда, а куда ж ещё? Здесь его дом, здесь его семья… Гена перед смертью меня просил за него, я дала слово, что позабочусь о его сыне, а значит и его семье в том числе…
– Да они все ездят на тебе! – голос Татьяны дрожал и срывался, – И раньше, и сейчас… Гена твой мудак благородных кровей, всю жизнь унижал тебя и изменял на каждом шагу, этот кобель даже помер в кровати двадцатилетней любовницы, а ты всё, Гена, да Гена, да я слово дала… Очнись уже, Лида, они с мамашей взяли себе в дом служанку на законных основаниях, то есть через загс, чтоб не платить! Ты для них готовила, убирала, обстирывала, – Татьяна всхлипнула, – То бабку выхаживала после инсульта, то Пашку спасала, после того, как он попадал в очередную историю, и всё это с больным дитём на руках, пока Гена твой разлюбезный по санаториям ездил, да бабкины цацки, которые она, между прочим, тебе оставила, на шлюх спускал…
– Да что ты такое говоришь, Танечка? – ошарашенно протянула Лидия. Татьяна будто не слышала её:
– Теперь ты обслуживаешь Пашкину жену и ребёнка, ему самому передачи шлёшь, тянешься из последних сил, на двух работах жилы рвёшь, а у самой нет уже на всё это здоровья… Да в придачу на тебе Андрей с больным сердцем.
Лидия ещё раз посмотрела на часы и улыбнулась, вбежавшей в кухню маленькой рыжеволосой девочке, которая немедленно вскарабкалась к ней на колени, и, запрокинув головку, посмотрела на Лидию светло-зелёными глазами, забавно двигая вверх-вниз отчаянно курносым, веснушчатым носиком. Она забыла, что собиралась ответить на резкие слова Татьяны о своей жизни, в никчёмности которой, судя по всему, сестра нисколько не сомневалась. Вместо этого, она звонко поцеловала девочку в упругую щёчку, и, спуская ребёнка с колен, сказала в трубку:
– Если бы ты только видела Катюшку, дочку Павлика, ты бы всё поняла… У меня такое чувство, что время сдвинулось каким-то странным образом, и я вижу тебя в детстве, честное слово, Танюша! Как такое могло случиться, ума не приложу, но это так…Ты прости, сестрёнка, в больницу пора ехать, не хочу, чтобы суп остыл, Андрюша не любит холодный…
Сороковины по усопшему рабу божьему Андрею подходили к концу. Из гостей оставались лишь соседи, пожилые супруги, за столько лет ставшие почти родными, да сестра Татьяна со старшей дочерью, неуловимой, но отчётливо-уменьшенной копией матери. Лидия смотрела на большой портрет своего сына, перевязанный в правом углу чёрной лентой, а вспоминала, как и все эти сорок дней, тот день, когда он умер. Он не давал ей покоя, не отпускал её, сводил с ума. За неделю до смерти Андрей отметил сразу два своих юбилея: двадцать пять лет со дня рождения и пять лет работы в крупной фирме, куда устроился системным администратором, будучи ещё студентом университета, а последний год занимал должность технического директора. В тот день сын приехал домой рано, Лидия ещё была на работе. Он позвонил ей и попросил купить жаропонижающее, так как он почему-то не смог найти его в более чем обширной домашней аптечке, у которой к тому же было в квартире несколько филиалов. Стоял туманно-студенистый февраль, переполненный густой и насыщенной влагой до такой степени, что способность впитываться у неё была уже с отрицательным значением. Кругом все болели, официально сообщалось об очередной волне какого-то нового гриппа. У Лидии не было никакого дурного предчувствия. Миллион раз потом она спрашивала себя, почему она не отпросилась и не помчалась домой к своему мальчику… Почему случилось так, что он умирал совсем один, в огромной квартире… И не помогали в этом мучительном самоистязании ни его медицинский диагноз, ни заключение о несовместимой с жизнью сердечной патологии, ни даже тщательно гонимое от себя самой, глубоко потаённое, наглухо замурованное и ежечасно забиваемое внешними и внутренними стимулами, чахлое, но беспредельно живучее понимание того, что Андрей, её бесконечно, до боли любимый сын, её родная, выстраданная и вымоленная кровиночка, будет на этой земле совсем недолго.
Он полулежал в кресле, с открытым настежь окном и расстёгнутой рубашке, изо всех сил борясь с всё нарастающей нехваткой воздуха и до последней минуты заставляя своё уставшее и больное сердце работать, хотя и предвидел его досрочную остановку яснее и гораздо раньше других. Кожа была лишена синюшности, как это обычно бывает у сердечников. Андрюша лежал, чуть завалившись влево, с лёгким румянцем, словно только что вернулся с бодрящей прогулки. Лицо его было спокойным и умиротворённым, как у человека, который отлично выполнил очень трудную, но важную работу, и теперь, наконец, может спокойно отдохнуть.
Вот это лицо и не давало покоя Лидии. Она видела его, когда смотрела на фотографию сына, она видела его, когда очередной раз отвечала Татьяне, что нормально себя чувствует и с ней не нужно никому оставаться, тем более что завтра возвращается Павел с семьёй. Она видела лицо своего мальчика, когда закрывала двери за последними уходящими гостями. А когда села в кресло и закрыла глаза, точно знала, кого увидит в углу между дверью и престарелым сервантом. Для этого ей даже было совсем не обязательно открывать глаза. Прежде, чем увидеть её, она услышала протяжный вздох. Призрачная женщина смотрела на неё со смешанным выражением скорби, изнеможения и муки. Мышиного цвета растянутая кофта сморщенным мешком висела на костлявых плечах и чуть заметно колебалась. Чёрный платок на этот раз плотно облегал седую голову. Выражение тоски и бесконечной усталости на ощутимо реальном лице, было непереносимо. Но первый раз в жизни Лидии не было страшно, – Что тебе нужно? – свистящим от ненависти голосом спросила она. В качестве ответа снова прошелестел легкий вздох. – Что тебе нужно от меня, чёртова ведьма! – уже в голос закричала Лидия, – Ты забрала почти всех, а самое главное, ты отняла его, – схватив со стола портрет Андрея, она зарыдала громко, в голос, прижавшись лицом к стеклу фоторамки, и крупно вздрагивая худыми плечами. Лидия подняла голову, вздыхающая женщина сместилась глубже в угол за дверью. – Куда же ты, – она медленно направилась к двери, – Неужели ты думаешь, что после того, как ты забрала сына, меня чем-нибудь можно напугать? О, я поняла всю твою подлость, именно накануне его смерти ты не явилась ни разу, ты, таким образом, усыпляла мою бдительность, мол, всё нормально, не беспокойся, – Лидия тихо обхватила ладонью ручку двери, – Ты пожаловала только на похороны, и вот сейчас, – повысила до крика свой голос Лидия, – Когда сорок дней уже нет на свете моего мальчика, когда сорок дней он лежит в сырой земле! – голос её сорвался на визг, она тяжело переводила дыхание, её мучительный вздох прозвучал синхронно с лёгким шелестом из-за двери. – Зачем ты это делаешь!? – снова прошептала Лидия и рванула на себя дверь. Гулко стукнуло по дереву, прикреплённое только сверху, к задней стенке двери, овальное зеркало. Чёрная тряпка, которой оно было задрапировано, со дня смерти Андрея, да так и забыта, упала к ногам Лидии. Призрачная женщина смотрела оттуда на Лидию, с застывшим, совершенно безумным выражением испуганного ступора на измождённом лице. Серая, мешковатая кофта вздымалась на плоской груди. Чёрный платок съехал с головы, обнажая седые пряди. Лидия подошла ближе, всё также сжимая руками с набухшими у суставов пальцами фотографию в стеклянной рамке умершего сорок дней назад своего сына. Отражение никогда её не обманывало. Страшнее всего, что она, кажется, всегда это знала. Даже тогда, в ту ужасную ночь, когда увезли в больницу её маму, и она встретилась с ним впервые. Лидия долго стояла так, прижимая к груди портрет, не замечая слёз и иногда взглядывая на плачущую в зеркале женщину.
АЛЬКА
Алька ворочалась на чужой, непривычно и излишне мягкой постели, и никак не могла уснуть. Такое за её тринадцать с половиной лет случилось едва ли не впервые. Возможно, это было связано с тем, что Алька очень редко ночевала где-нибудь за пределами их уютной, двухкомнатной квартиры. А даже если такое и имело место, например, когда они приезжали летом к бабушке, или на море, то родители и брат всё равно находились где-то рядом. То есть не были удалены от Альки географически. Раньше она не думала, что это для неё важно. Наоборот, сколько себя помнит, она всегда стремилась к автономности. Альку до сих пор ужасно расстраивало, что ей приходилось делить комнату со своим младшим братом. Иногда она всерьёз полагала, что этот мальчишка появился на свет исключительно для того, чтобы отравлять ей жизнь. И, к слову, оснований для этого у Альки было предостаточно. Хотя справедливости ради необходимо отметить, что и у её младшего брата Ромки по отношению к старшей сестре их насчитывалось не меньше.
В самом начале, когда она только легла на высокую, железную, с круглыми набалдашниками кровать, в нос ударил незнакомый, душный запах перьевой громадной подушки. А сразу после она почувствовала неприятную тягучую мягкость комковатой перины, которая будто ожившая зыбкая топь, вздохнув, медленно, но неуклонно принялась всасывать в себя длинное и худое Алькино тело, начиная с середины позвоночника. Девочка неподвижно вытянулась и старалась дышать неглубоко и как можно реже. В тот момент, когда Альке почти удалось убедить себя, что медленное и тошнотворное погружение завершено и коварно-обманчивая постельная мягкость не грозит ей неминуемым удушением, как только она уснёт, в комнате раздался оглушительный бой старых, как и почти всё остальное в этом доме, настенных часов. Странное дело, вечером, когда мама её привезла сюда, часы тоже били, Алька отлично это помнила, но тогда звучали они совершенно по-другому: осторожно, вкрадчиво и деликатно, как будто между прочим, словно опасались ненароком помешать людям своим неуместным боем вести их важные дела и разговоры. Сейчас же били они с таким яростным наслаждением, будто всё это натужно-сдерживаемое дневное время только и мечтали об этом, набираясь сил, накапливая ядерную мощь и аккумулируя до поры нервное напряжение и энергетику, чтобы бить в ночи каждый час с пушечным грохотом в оглушительной тональности. После каждого удара, часы на пару секунд в экстазиционном ликующем полуобмороке затихали, как бы прислушиваясь с неослабевающим восторгом к собственному звучанию, и не дождавшись завершения упругого, плотного, будто материального отзвука, с дребезжащей пульсацией отскакивающего от головного мозга и барабанных перепонок к стенам и окнам, с торжественно-упоительным наваждением выдавали новый залп, пока не отбив положенное количество раз, наконец, не умолкали, опустошённые и пристыженные в многократном оргазмическом изнеможении. Часы били нестерпимо долго, набатным, издевательским гулом отдаваясь в голове у Альки. Она была совершенно уверена, что сейчас же в комнату явится вся семья дяди Коли, включая, недавно ощенившуюся милейшую собачку Дайну, а может даже прибегут близлежащие соседи. Ведь нельзя же, в самом деле, как ни в чём ни бывало продолжать спать и делать вид, что ничего не случилось, когда в доме стоит такой невообразимый, адский грохот, производимый абсолютно и окончательно слетевшими с катушек часами. Но ничего подобного не случилось. В доме стояла полнейшая тишина. Всё ещё оглушённая, с бешено колотящимся сердцем, и как будто слегка контуженная, Алька посмотрела на мирно сопящую Галку, младшую дочку тёти Ани и дяди Коли, с которой они завтра отправляются в лагерь: та спала на правом боку, а значит лицом к Альке, сильно запрокинув голову и приоткрыв рот. От светившего на противоположной стороне улицы тускло-жёлтым светом фонаря, очертания предметов и людей в комнате обозначались с горчично-перламутровым оттенком. Умиротворённо-безмятежный вид Галки подействовал быстро и качественно, как проверенный и надёжный седативный препарат. Прерывисто вздохнув, Алька перевела взгляд на новенький, специально для поездки в лагерь приобретённый чемоданчик, с серой тканевой крышкой, со светло-коричневыми боковинами, с залихватской, блестящей пряжкой, венчающей того же, золотистого оттенка ремень, берущий своё начало под тугой, лакированной ручкой и опоясывающий его ровно посередине. Налюбовавшись вдоволь на тщательно упакованный заботливыми мамиными руками чемодан, Алька откинулась на подушку и начала думать о том, что её ждёт в лагере. Но это не очень-то получалось, хотя бы потому, что опыта пребывания в таком месте, да ещё и расположенном в придачу, не тут же за их маленьким, провинциальным, южно-захолустным городком, а на самом берегу Чёрного моря, у неё до сих пор не было. Мысли путались, лихорадочно наскакивали одна на другую, изредка, на доли секунды группировались, чтобы тотчас же снова отскочить и разбежаться по сторонам, кардинально меняя направление. К тому же сосредоточиться мешало то Галкино протяжное сопение, иногда перемежающееся лёгким стоном или невнятным бормотанием, то тоскливым предчувствием нового оглушающе-невыносимого боя часов. Самой Альке поведение её мыслей напоминало хаотично-радостные метания собаки Дайны, которая сегодня днём восторженно носилась от Альки к Галке и обратно, а от них судорожно бросалась к своим четверым новорождённым кутятам, и сожаление, с которым она оставляла девочек, повинуясь материнскому инстинкту и чувству долга, на мгновение проступало на её длинной умной мордочке, безошибочно определяемом Алькой по тому, как вдруг навостряла Дайна уши, и какими скорбными и печальными делались в этот момент её крупные, оливково-блестящие глаза. Здесь Алькины мысли потекли стройно, плавно и совсем в другом направлении. Думать о щенках было легко и приятно. Они с Галкой доставали их из старой, деревянной будки одного за другим, внимательно осматривали поскуливающие, шерстяные валики, и когда Галка с видом умудрённого многолетним опытом ветеринара, небрежно глядя на исполненные природой в пастельных тонах пятнистые, нежные пузики, называла пол кутёнка, под присмотром беспокойно снующей тут же матери, тыкающейся влажным хлопочущим носом, то в руки девочек, то в собственных детей, осторожно возвращали щенков на место. Когда Алька держала в руках этот упитанный тёплый комочек, ей хотелось плакать от переполняющей её любви и умиления.
Выходящий из сарая дядя Коля, наблюдая за сидящими на корточках возле будки девчонками, усмехнувшись, бросил через плечо: «Вот вернёшься из лагеря, Алиска, и возьмёшь себе одного, если мамка разрешит, конешно… Будет как раз ко времени, а сейчас уйдите оттуда… Слышь, Галка, разве не видишь, как матерь трясётся ихняя, того и гляди окочурится, чего тогда с ими делать?!» Не помня себя от радости, Алька помчалась к маме и, найдя её в летней кухне, где она сидела вместе с Галкиной матерью, едва переведя дух, сбивчиво, волнуясь и перебивая саму себя, рассказала о том, какие чудесные щеночки родились у собаки Дайны, и как бы ей хотелось взять одного, самого малипусенького и толстенького, с чёрной полосой на спинке, нежно-розовым пузиком в коричневых веснушках и рыжими боками. Мать натянуто улыбнулась и выразительно посмотрела на дочку. Альке хорошо был известен этот взгляд. Более того, она могла бы прямо сейчас, не сходя с места перевести его, так сказать, в вербальный формат. Означал он буквально следующее: «Какого чёрта ты устраиваешь в чужом доме, при посторонних людях этот спектакль, основное действие которого снова разворачивается вокруг этой осточертевшей собачьей темы? Ты что специально это делаешь, пользуясь тем, что мы не у себя дома? Можешь даже не надеяться на то, что тебе сойдёт с рук эта манипуляция. Если бы ты меньше думала о щенках, а больше, например, об учёбе, у тебя не стояла бы за год позорная тройка по математике». Но вместо этого мать, продолжая неестественно улыбаться, в совершенно не свойственной ей фальшиво-ласковой манере, вкрадчиво произнесла:
– Алисонька, милая, – Альку стало подташнивать. Это случалось с ней, когда ей что-то очень сильно не нравилось, и она это что-то активно не принимала. То есть почти всегда. Наиболее остро эта физиологическая особенность проявлялась, когда Алька сталкивалась с нечестностью, притворством и увиливанием. Например, матери в жизни не прийдёт в голову в обычной ситуации обращаться к дочери подобным образом. Мама у неё вообще не очень-то ласковая, хотя добрая и любящая. А ещё она честная и открытая, Алька это знает абсолютно точно, и потому ей особенно неприятна эта приторно-демонстративная показуха, рассчитанная больше для посторонних ушей. К тому же Алька терпеть не может своего полного имени – Алиса, особенно, после того, как двоечник Костюченко в прошлом году при виде её тут же начинал противно-визгливым голосом декламировать перелицованный им стишок из детского мультика: «Жила на свете крыса по имени Алиса». Слава богу, что противный одноклассник, как и тот учебный год, остались в прошлом. Год просто закончился и Костюченко тоже. Его перевели в спортивный класс, чтобы он не портил успеваемость, а играл себе в свой дурацкий футбол и молчал в тряпочку.