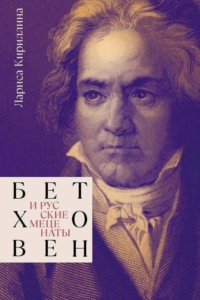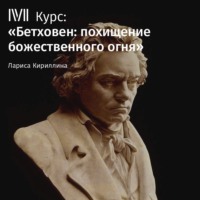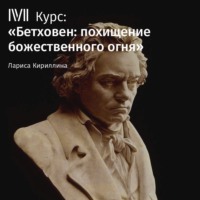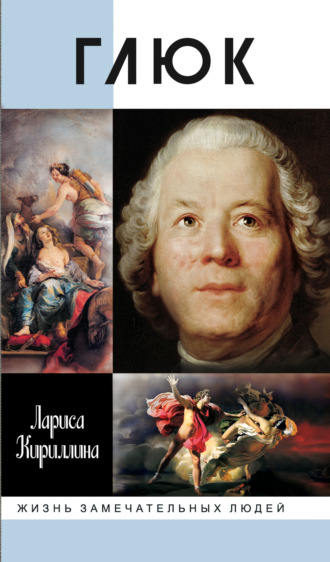
Глюк
Музыкально-театральные пристрастия императорской семьи, яркие впечатления от придворных представлений в Вене и Праге, а также распространившаяся в 1730-х годах по всей Европе, от Лондона до Петербурга, мода на итальянскую оперу побудили некоторых представителей чешской знати предпринять усилия для появления в Праге постоянно действующего театра. До этого странствующие итальянские труппы, обычно небольшие по составу, выступали во дворцах пражских аристократов – князей Кинских, Лобковицев и др. В 1724 году граф Франц Антон Шпорк решил открыть театр в саду своей городской усадьбы на Губернской улице, а в качестве импресарио пригласил итальянца Антонио Денцио (1689 – после 1763). Тот был певцом-тенором, либреттистом и постановщиком. Театр Шпорка просуществовал не очень долго, поскольку к 1730 году граф утратил интерес к своему детищу, а у Денцио, лишённого меценатской поддержки, дела шли всё хуже, так что в 1735 году он был вынужден закрыть театр и даже провести некоторое время в долговой тюрьме. После этого он много странствовал по Европе, а в 1755 году поступил на должность либреттиста придворной итальянской оперы в Санкт-Петербурге. После 1757 года Денцио уехал в Москву, и там его следы затерялись.
Молодой Глюк, несомненно, успел побывать в театре Шпорка, где, наверное, впервые услышал итальянские оперы, сильно отличавшиеся по своему музыкальному и художественному языку от всего, что он знал ранее. Там ставились, в частности, оперы Антонио Вивальди, а сам композитор в 1730 году приезжал в Прагу в связи с постановкой своей оперы «Фарнак» (далее его путь лежал в Вену). В том же 1730 году Денцио поставил оперу-пастиччо с музыкой разных композиторов на своё либретто, озаглавленное «Наказанный порок» – это был один из вариантов истории Дон Жуана и, вероятно, первая опера на данный сюжет. Партитура не сохранилась, но известно, что музыка была позаимствована из произведений очень известных тогда авторов: Антонио Кальдары, Вивальди и др. Забавно, что роль соблазнителя Дон Жуана была поручена кастрату-сопрано (Маттео Лукини)[11].
Новые впечатления должны были полностью захватить столь жадного до музыки юного Глюка. Но, скорее всего, в начале 1730-х он даже мечтать не смел о том, что через десять лет его собственные оперы будут ставиться не только в Праге, но и в Италии. Поначалу ему нужно было найти такое применение своим способностям, которое приносило бы какой-то доход и не слишком разочаровывало родителей, чьи ожидания он так и не смог оправдать. Даже если университет дал Глюку определённую сумму знаний, следовать по академической стезе он явно не собирался.
В какой-то момент Глюк, очевидно, прибег к покровительству к патрону своей семьи – князю Филиппу Гиацинту Лобковицу (1680–1737), одному из самых могущественных, богатых и влиятельных чешских вельмож, у которого отец Глюка служил главным лесничим. Князь мог обратить внимание на талант Кристофа, узнав о конфликте на почве музыки в семье своего главного лесничего. Князь и его подчинённый не только являлись сверстниками (Филипп Гиацинт был всего на три года старше Александра Глюка), но и родились в одном городе – Нойштадте, так что, очевидно, были знакомы чуть ли не с детства. При том что социальная дистанция между князем и лесничим была огромна, патриархальные нравы той эпохи допускали и даже отчасти требовали некоторого участия патрона в семейных делах его верных служащих. И не исключено, что в споре между отцом и сыном князь занял сторону сына, лично убедившись в его недюжинном музыкальном таланте. А единственным способом пристроить талантливого юношу было взять его на службу в княжескую капеллу.
Князь Филипп Гиацинт и его вторая супруга Анна Мария Вильгельмина, урождённая графиня Альтан, сами были хорошими музыкантами и увлекались игрой на лютне; их наставником был самый знаменитый лютнист первой половины XVIII века Сильвиус Леопольд Вайс. В коллекции князей Лобковиц в дворце-музее в Пражском Граде представлено несколько прекрасных старинных образцов этого изысканного инструмента, а также собрание редких нот для лютни, отчасти напечатанных, отчасти рукописных. Княжеская семья была достаточно богата, чтобы содержать собственную капеллу – в XVIII веке ещё камерную, но впоследствии расширившуюся до размеров оркестра, способного исполнять симфонии Бетховена. В музейной экспозиции дворца Лобковиц можно увидеть все инструменты, звучавшие в княжеских концертах в XVIII – первой трети XIX века, и ноты произведений Глюка, Гайдна, Моцарта и Бетховена, исполнявшихся придворными музыкантами. Владения семьи Лобковиц были чрезвычайно обширны и включали в себя не только дворцы в Праге и в Вене, но и несколько замков в Чехии и Силезии. Перемещаясь из одной резиденции в другую, князья обычно возили с собой и музыкантов. Без музыки аристократический быт того времени был совершенно немыслим. Вечерами давались балы и концерты, а порой и домашние постановки небольших опер. Выезды на охоту, прогулки по парку, семейные торжества и званые обеды сопровождались звучанием ансамбля духовых инструментов. Сами аристократы также постоянно музицировали, нередко в компании служащих капеллы. Скорее всего, именно так молодой Глюк попал в Вену: он мог начать службу у князя Лобковица ещё в Праге, а затем вместе с прочими музыкантами переехал в имперскую столицу. Виолончель, на которой играл молодой Глюк, была совершенно необходимым инструментом, аккомпанировавшим почти любым ансамблям.
Князь Филипп Гиацинт скончался в Вене 21 декабря 1737 года[12]. Вряд ли дела капеллы и судьба юного Глюка сильно занимали овдовевшую княгиню в период семейного траура и улаживания всех сложных формальностей, связанных со вступлением в права наследства и утверждением опекунов малолетних сыновей покойного князя. После смерти Филиппа Гиацинта княгиня вышла замуж за своего родственника, графа Людвига Йозефа Гундакера фон Альтана, который принял на воспитание её сына от первого брака – юного князя Фердинанда Филиппа Лобковица (1724–1784). В 1740-х годах этот князь также стал покровителем Глюка, но в 1730-е годы он был ещё мальчиком и не мог заниматься меценатством, к которому впоследствии выказал большую склонность. Любопытно, что именно Фердинанд Филипп унаследовал от своего отчима великолепный дворец в Вене, известный ныне как «дворец Лобковиц» (в нём в настоящее время находится Театральный музей). Покровительство Глюку впоследствии оказывал также дядя Фердинанда Филиппа – полукровный брат его отца, князь Георг Кристиан Лобковиц (1686–1755), видный австрийский военачальник, получивший в 1741 году чин фельдмаршала. Но этот князь служил преимущественно в Италии, где командовал располагавшимися там частями австрийской армии.
Как бы то ни было, Глюк не упустил счастливого шанса попасть в имперскую столицу и заручиться покровительством одной из самых влиятельных семей империи. Весьма скромное поначалу положение рядового придворного музыканта сулило карьерные перспективы, которых, очевидно, не было в Праге. Обширная география перемещений по Европе многочисленных чешских композиторов и виртуозов XVIII века свидетельствует о том, что на родине редко кто из них находил должное признание и достойное применение своим силам. Симфонисты Ян Стамиц, Франтишек Ксавер Рихтер и другие создали в конце 1740-х годов знаменитый оркестр при дворе пфальцского князя Карла Теодора в Мангейме; в Дрездене служил выдающийся мастер церковной музыки – Ян Дисмас Зеленка; в Италии был оценен талант упоминавшегося нами ранее Богуслава Черногорского; во второй половине XVIII столетия прославились композиторы Йиржи Антонин Бенда (работал в основном в Берлине), Йозеф Мысливечек (его оперы шли в Италии), Флориан Леопольд Гассман и Павел Враницкий (Вена), создатель русской «роговой музыки» валторнист Ян Антон Мареш и многие другие. Увы, в современной Праге мы не найдём ни музеев, ни специальных залов в большом Музее Музыки, посвящённых кому-либо из них, притом что никто из этих мастеров не принадлежит к забытым гениям – их произведения продолжают издаваться, исполняться, изучаться.
Музея Глюка в Праге тоже нет – может быть, потому, что в юности он прожил тут недолго и никаких материальных следов его присутствия в этом городе просто не осталось: ни адреса (кроме университета Каролинум), ни каких-либо мемориальных предметов, ни даже ранних сочинений. Правда, в начале 1750-х Глюку суждено было вернуться в Прагу, однако уже не в статусе недоучившегося студента, а в качестве знаменитого оперного композитора.
Из Вены в Италию
Вена в XVIII веке была не только имперской столицей, но и одним из главных музыкальных центров Европы. Этому способствовало особое пристрастие к музыке ряда императоров, особенно Леопольда I и правивших вслед за ним двух его сыновей, Иосифа I и Карла VI. Все они хорошо владели игрой на разных музыкальных инструментах, особенно клавишных, и сами сочиняли музыку. Поэтому в придворную капеллу приглашались выдающиеся композиторы и виртуозы, а театральные представления и концерты отличались блеском и в то же время утончённостью вкуса. Правда, во второй половине XVIII века этот вкус уже воспринимался как безнадёжно устаревший – помпезный, вычурный, претенциозный, причудливый, нарочито мудрёный. Словом, барочный. Термин «барокко» использовался применительно к музыке поначалу в негативном ключе и лишь в XX веке стал оценочно нейтральным. Первая половина XVIII столетия ныне считается эпохой «высокого барокко». Достаточно перечислить имена великих композиторов, расцвет творчества которых пришёлся на 1720—1750-е годы: Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель, Георг Филипп Телеман, Антонио Вивальди, Жан-Филипп Рамо, Доменико Скарлатти, Иоганн Адольф Хассе…
Не последнее место в ряду музыкантов этого времени принадлежало венскому капельмейстеру Иоганну Йозефу Фуксу (около 1660–1741). Напомним, что именно его опера «Постоянство и сила» звучала во время пражской коронации Карла VI в 1723 году. Фукс, получивший образование в Граце и благосклонно принятый при дворе императора Леопольда I, совершенствовался в 1700 году у итальянских мастеров в Риме, а затем до конца жизни работал в Вене. Его карьера, однако, складывалась отнюдь не стремительно. По-настоящему высокие должности Фукс начал занимать лишь при Карле VI: в 1712 году он был назначен вице-капельмейстером придворной капеллы, а в 1715-м, после смерти итальянского мэтра Марко Антонио Циани – капельмейстером. До Фукса этот пост занимал, пусть очень недолго, лишь один композитор-австриец – выдающийся скрипач Иоганн Генрих Шмельцер, любимец императора Леопольда (интересно, что это назначение состоялось в 1679 году в Праге, куда императорский двор бежал от свирепствовавшей в Вене чумы; эпидемия в 1680 году достигла Праги и унесла жизнь Шмельцера). Предпочтение, обычно оказываемое монархами той эпохи капельмейстерам-итальянцам, объяснялось не просто модой и не нарочитой дискриминацией национальных талантов, а деловыми соображениями. Капельмейстер должен был уметь сочинять музыку в разных жанрах, включая оперу, без которой не обходился ни один влиятельный европейский двор. Во Франции в XVII веке сложилась собственная оперная традиция (созданная, что тоже примечательно, исконным итальянцем, превратившимся во француза – Жаном Батистом Люлли). Во всех же других странах господствовали те или иные варианты итальянской оперы, сочинявшиеся на итальянские тексты и рассчитанные на голоса итальянских певцов. Естественно, что в таких условиях конкурентное преимущество было у композиторов-итальянцев либо у тех, кто в совершенстве владел итальянским вокальным стилем. Но в первой половине XVIII века таких музыкантов было мало: этому стилю нужно было специально учиться, причём лучше всего – непосредственно в Италии, что мог позволить себе не каждый, а монархи и меценаты предпочитали нанимать уже известных мастеров, а не тратиться на обучение молодых талантов.
Фукс начинал как церковный композитор, но, заняв капельмейстерскую позицию, создал несколько опер, ставившихся примерно с той же громоздкой пышностью, что и «Постоянство и сила». В 1715 году в честь празднования дня рождения императора Карла VI в Вене была поставлена его опера «Орфей и Эвридика» на либретто Париати (мы упоминаем о ней, поскольку через несколько десятилетий этот сюжет станет знаменем глюковской реформы музыкального театра), а в 1731 году ко дню рождения императрицы Елизаветы-Кристины в венской загородной императорской резиденции Фаворита состоялась не менее зрелищная постановка оперы «Эней в Элизии, или Храм Вечности». Сюжет этой оперы касался путешествия прародителя древних римлян, Энея, в загробное царство, где он встречал множество знаменитых персонажей античной истории и мифологии (включая всё того же Орфея). Глюк, как мы помним, в это время находился ещё в Праге, к тому же по своему положению и происхождению он не имел возможности посещать закрытые для широкой публики придворные представления. Но в Вене 1730-х годов, городе Карла VI, любившего барочную роскошь, этот стиль процветал и господствовал. Поэтому и молодой Глюк жадно впитывал соответствующие художественные впечатления, как музыкальные, так и визуальные.
Несколько выдающихся архитекторов, работавших в эту эпоху, создали барочный образ Вены: Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах и его сын Йозеф Эмануэль, Фердинандо Галли-Бибиена и Иоганн Лукас фон Хильдебрандт. Фишер фон Эрлах и Хильдебрандт учились в Италии, так что в эстетическом отношении они принадлежали к одному и тому же направлению. Семейство Галли-Бибиена, включавшее в себя также сыновей Фердинандо – Антонио, Джузеппе и Алессандро, прославилось прежде всего в области театральной сценографии, невероятно сложной, эффектной и изобиловавшей техническими кунштюками, поскольку в барочной опере обильно использовались сценические механизмы, позволявшие изображать полёты, волшебные превращения, появления богов и т. д. Но и барочная архитектура, будь то храм, дворец или особняк, представляла собой своеобразный застывший театр, где декорациями служили парадные лестницы, красочные росписи на стенах и плафонах, бархатные портьеры, мебель самых изысканных форм. Таким был (и остался) построенный Фишером фон Эрлахом венский дворец графов Альтан, ставший при жизни Глюка дворцом князей Лобковиц. Рамки частной резиденции, вписанной в структуру городской застройки, не позволяли фантазии архитектора и его помощников развернуться в полную силу. Такая возможность Фишеру фон Эрлаху была предоставлена при строительстве зданий, связанных с императорскими заказами. В 1715 году было начато воздвижение церкви Святого Карла Борромейского – небесного покровителя императора Карла VI. Завершался этот многолетний труд уже под руководством Эрлаха-сына, в 1739 году. Следовательно, молодой Глюк мог наблюдать, как приобретает свой окончательный вид одно из самых красивых и причудливых сооружений Вены, в композиции которого с чисто барочной «всеядностью» соединялись знаковые символы разных культур и разных эпох: ренессансный купол, ассоциирующийся с куполом собора Святого Петра в Ватикане, древнегреческий портик, два крыла с барочными фасадами – и, наконец, две огромные колонны с барельефами, которые издали напоминают восточные минареты, но на самом деле повторяют знаменитую триумфальную колонну императора Траяна в Риме. Всё это великолепие зеркально отражается в воде бассейна, расположенного перед церковью, добавляя в ряд возможных ассоциаций восточные дворцы и храмы (Тадж-Махал в Индии). Внутри же храма господствует буйное, празднично яркое, крайне далекое от аскетизма живописное барокко: ослепляющий игрой света и золота алтарь, изображающий вознесение Св. Карла Борромейского на небеса в окружении ангелов; росписи, словно бы хаотично раскиданные по стенам и куполу – от их разглядывания голова может пойти кругом, ибо фигуры представлены в разных ракурсах, а каждый сюжет полон интересных деталей; сам купол, над которым словно бы парит Святой Дух в виде голубя, а вокруг него поют хвалебные гимны пухлые розовощёкие ангелочки, явно списанные с каких-то реальных венских мальчишек своего времени.
Проходя мимо Карлскирхе как в 1730-е годы, так и позднее, когда церковь была уже достроена и функционировала в качестве одного из придворных храмов, Глюк, конечно, не мог и предположить, что когда-нибудь ему поставят памятник неподалёку от этого грандиозного сооружения. Но о памятнике и его довольно странной судьбе с многочисленными перемещениями мы поговорим в самом конце этой книги.
Если предположить, что Глюк появился в Вене в 1734 году и провел там примерно три года, то венское барокко должно было оказать на него ощутимое влияние. Кроме оперных произведений, которые, помимо парадных придворных спектаклей, могли исполняться фрагментами в частных концертах, он, несомненно, слышал церковную и ораториальную музыку. Здесь, правда, сосуществовали как минимум две традиции: австрийская и итальянская. Крупнейшим представителем австрийской традиции был императорский капельмейстер Фукс, в творчестве которого сполна проявилось пристрастие к ученой полифонии – искусству многоголосного письма, характерному для эпохи позднего барокко прежде всего в Германии и Австрии (именно поэтому Фукса иногда называют «австрийским Бахом»). Эта манера письма, не слишком уместная в опере, где господствовало сольное пение, оставалась признанным эталоном стиля в церковной музыке, рассчитанной на хоровое и органное звучание. Идеалом для самого Фукса было творчество «князя музыки», Джованни Пьерлуиджи да Палестрины, величайшего итальянского церковного композитора XVI века. Но Палестрина, служивший в папских храмах в Риме, писал исключительно для голосов без сопровождения, alla capella (то есть «как в [папской] капелле»). В начале XVIII века этот стиль, называвшийся также «строгим», почти нигде в католическом мире, кроме Ватикана, уже не использовался. Обычно певчих сопровождал по меньшей мере орган, а в императорской капелле и в крупных храмах – целый оркестр, за исключением Страстной недели, когда всякая пышность из церковной музыки изгонялась.
Другая линия, более современная, была представлена итальянцами, в частности, венским вице-капельмейстером Антонио Кальдарой (1670–1736). Он работал в Вене с 1716 года и именно там создал свои лучшие произведения – оперы, оратории, мессы. В его стиле не ощущается никакой ностальгии по «золотому веку» итальянской полифонии в лице Палестрины. В целом у Кальдары господствует тогдашний оперный стиль, с развитыми сольными номерами, рассчитанными на хороших певцов, с эффектными контрастами оркестра, хора и солистов. Оратории, именовавшиеся тогда «священными представлениями» (azione sacra), исполнялись не в театре, а в здании придворной капеллы, хотя и не во время богослужения. В начале 1730-х годов Кальдара создал такие замечательные произведения, как «Страсти Иисуса Христа» (1730), «Святая Елена на Голгофе» (1731), «Смерть Авеля» (1732). Как ни странно, их сюжеты также имели отношение к австрийской традиции, начатой ещё императором Леопольдом I – традиции sepolcri, театрализованных представлений на библейские сюжеты на фоне декорации, изображающей Голгофу, на которой был распят Христос, и череп Адама в недрах горы, символизировавший искупление первородного греха. В эпоху Карла VI никакой театрализации при исполнении ораторий уже не практиковалось, но тема Голгофы, мученичества и смысловых параллелей между Ветхим и Новым Заветом по-прежнему фигурировала в текстах либретто.
Молодому Глюку, скорее всего, больше импонировала экспрессивная манера Кальдары и других итальянцев, работавших в Праге и Вене, а не более архаичная и эмоционально сдержанная манера Фукса. Между тем в 1725 году Фукс опубликовал важнейшее теоретическое произведение, принесшее ему широкую славу при жизни и после смерти – трактат-учебник Gradus ad Parnassum («Ступень к Парнасу»). Трактат был почтительнейше посвящен императору-меломану Карлу VI, но адресован молодым композиторам, желавшим овладеть искусством полифонического письма, или контрапункта, чтобы писать безупречные церковные произведения. В те времена, при отсутствии консерваторий и музыкальных академий где-либо, кроме Италии, премудрости контрапункта передавались, как правило, из уст в уста, от учителя к ученику. Этому же методу Фукс подражал в своём трактате, излагая материал в виде диалогов учителя – Алоизия и ученика – Йозефа. Имя ученика прозрачно намекало на самого Фукса, а под учителем подразумевался не кто иной, как давно умерший Пьерлуиджи да Палестрина, поскольку имя Пьерлуиджи по-латински звучало как Petrus Aloisius. Латинский язык был выбран Фуксом для изложения не случайно. Во-первых, это был язык католического богослужения, овеянный аурой сакральности. Во-вторых, в первой половине XVIII века латынь оставалась универсальным языком общения ученых и интеллектуалов во всей Европе (между прочим, документация Московского университета, основанного в 1755 году, также долгое время велась на латыни). Поэтому любой юноша, имевший хотя бы гимназическое образование, мог освоить Gradus ad Parnassum даже самоучкой, тщательно выполняя все предписанные упражнения. Венцом обучения становилось сочинение фуги – произведения для нескольких совершенно равноправных голосов, разрабатывающих одну или несколько тем, звучащих то наверху, то в басу, то в срединных слоях непрерывно движущейся музыкальной ткани.
Латынь Фукса отнюдь не затемняла сути предмета. Она была преднамеренно ясна и грамматически проста, а последовательная методика преподавания, предложенная им, настолько стройна и убедительна, что этот учебник вскоре стал самым авторитетным пособием про контрапункту в Европе. Уже в XVIII веке Gradus ad Parnassum был переведён на итальянский, немецкий и английский языки, и по нему учились азам ремесла и наставляли своих учеников все великие классики – Гайдн, Моцарт, Бетховен. Совсем не обязательно было, чтобы музыкант, прошедший курс контрапункта по Фуксу, сочинял потом головоломные фуги на пять голосов. Он мог писать оперы, симфонии, концерты, сонаты, песни – всё, что угодно. Но обычно освоение учебника Фукса не проходило бесследно. Упражнения в строгом стиле, где нельзя было скрыть ошибки в гармонии и голосоведении за эффектными пассажами и изысканными украшениями, приучали к самодисциплине и самоконтролю, воспитывали цепкость слуха и глаза, позволяли выработать гибкие и логичные последовательности звуков как по горизонтали (мелодия), так и по вертикали (аккорды).
Увы, молодой Глюк оказался лишён этой школы. Нет никаких признаков того, что он когда-либо штудировал трактат Фукса. В юности, возможно, он сам не понимал, зачем это ему нужно, если он и так способен сыграть по слуху любую музыку почти на любом инструменте и если современные итальянцы сочиняют чудесные мелодии, не прибегая ни к каким учёным приёмам. А может быть, в 1730-е годы в окружении Глюка не нашлось никого, кто обратил бы его внимание на Gradus ad Parnassum и посоветовал бы пройти хотя бы начальный курс строгого стиля, где по шагам показано, как грамотно писать на два, три и четыре голоса, постепенно усложняя себе задачи. От виолончелиста камерной капеллы князя Лобковица таких подвигов не требовалось; партия виолончели записывалась на одной нотной строчке, и всех устраивало, если она была просто чисто сыграна. Если бы князь Филипп Гиацинт прожил дольше и имел бы возможность убедиться в незаурядном композиторском даровании Глюка, не исключено, что он позаботился бы о его надлежащем профессиональном обучении. Но этого не случилось. Знатоком контрапункта Глюк не был ни в юности, ни в зрелые годы.
Отчасти в этом было своё преимущество. Принадлежность к традиции барокко, связанной с полифонией, невольно внушала неискоренимый пиетет перед великими «стариками» и убеждённость в том, что они не могли выбрать неверный путь, а стало быть, нет ничего предосудительного в том, чтобы и далее следовать по нему, лишь несколько облегчая стиль в угоду вкусам нового времени.
Глюк, являясь практиком-самоучкой, с самого начала был свободен от благоговейного трепета перед мэтрами. Так же как он самовольно покинул отчий дом, чтобы стать музыкантом, в музыке он всегда выбирал свой путь, руководствуясь лишь собственными вкусами. Представление о том, что красота может воплощаться лишь в форме учёного многоголосного произведения, было ему глубоко чуждо. Он с детства интуитивно знал и понимал, что прекрасной может быть и простая народная песня на чешском языке, и мелодия пастушьего наигрыша, и фанфара охотничьего рога, повторяемая лесным эхо, и любовная ария из итальянской оперы. Но ведь и сочинение оперы – своего рода наука, причём сродни не столько математике, сколько алхимии, где даже сочетание известных элементов не сработает без присутствия искры магии и вдохновения. А ещё нужна доля везения, без чего в мире искусства не достичь ни успеха, ни славы.
Глюку вновь повезло: у него неожиданно появился заинтересованный меценат, который открыл ему не просто «ступень к Парнасу», а торную тропу на Парнас, то есть в мир итальянской оперы.