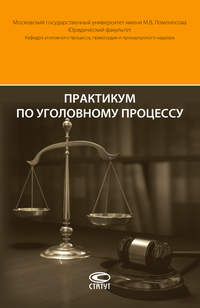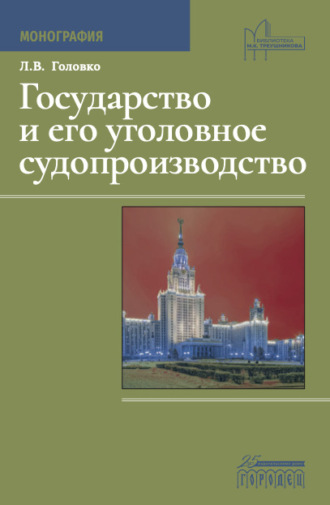
Государство и его уголовное судопроизводство
Что касается предусмотренных Cloud Act executive agreements, то данная форма получения информации, содержащейся на расположенных в иностранном государстве серверах, в большей мере соответствует традиционным представлениям о международном сотрудничестве государств, поскольку речь в этом случае идет о двухсторонних соглашениях исполнительных властей (США и другого государства). Пока таких соглашений немного. Любопытно, что, оказавшись здесь в ситуации взаимности, американский законодатель пытается максимально защитить интересы США и их граждан. В частности, заключившее с США executive agreement иностранное государство ни при каких обстоятельствах не вправе запрашивать хранящуюся на территории США информацию о гражданах США и лицах, постоянно проживающих в США, а также об иностранных гражданах, если относящиеся к ним сведения в том числе затрагивают граждан США и лиц, постоянно проживающих в США. Подобные запросы подлежат в соответствии с Cloud Act автоматическому отклонению, невзирая на содержание того или иного межправительственного соглашения и те обязательства, которые взяло на себя по соглашению иностранное государство.
Если говорить об общей оценке новейших уголовно-процессуальных механизмов, то нельзя не согласиться, что Cloud Act 2018 г. «предоставляет органам уголовного преследования США неограниченную юрисдикцию в отношении любых данных, контролируемых интернет-провайдерами, независимо от того, где эти данные хранятся, и кто их создал»108. При этом американских аналитиков более всего беспокоит, что «размах подобного одностороннего экстерриториального доступа к данным создаст опасный прецедент для других стран, которые также могут захотеть получить доступ к данным, хранящимся за пределами их собственных границ, включая данные, хранящиеся на территории Соединенных Штатов»109. Нет также никаких сомнений, что Cloud Act с его откровенной уголовно-процессуальной экстерриториальностью или даже универсальностью самым непосредственным образом затрагивает вопросы государственного суверенитета других стран, что отмечают уже европейские наблюдатели, призывающие незамедлительно действовать110. Но как действовать?
Понятно, что законодательство о «блокировке» типа французского Закона 1968 г. эффективным в данной ситуации быть не может, поскольку запрос направляется в адрес не в той или иной степени контролируемых заинтересованным государством юридическим лиц и граждан или полностью им контролируемых государственных органов, а фактически владеющих информацией интернет-провайдеров, в подавляющем большинстве случаев принадлежащих к той же юрисдикции, что и само запрашивающее государство (т. е. США), что связано с современным состоянием экономики, информационных технологий и т. п. Понятно также, что по тем же причинам не выглядят эффективными и попытки «симметричного ответа», т. е. конструирования собственного законодательства по образу и подобию американского Cloud Act. Бельгия, Монголия, допустим, даже Россия могут, конечно, такое законодательство принять, но симметричным оно окажется не фактически, а сугубо нормативно, так как глобальные интернет-провайдеры не распределены по миру пропорционально – они сконцентрированы главным образом в тех же США, что делает надежду на «ответные меры» иллюзорными.
На самом деле, по сути, ничего не остается, кроме как понять ключевую и неизбежную закономерность: чем более «цифровым» становится государство, тем менее суверенным оно является, по крайней мере в уголовно-процессуальном смысле. Иначе говоря, стимул для США сотрудничать с другими государствами в рамках оказания на взаимной основе традиционной правовой помощи сохраняется только при классических формах обработки и хранения информации, когда, в частности, уголовные дела остаются уголовными делами, не будучи оцифрованы, размещены в «облаках» и т. п., причем с неограниченным интернет-доступом к ним всех заинтересованных лиц. В противном случае тем же США много проще и надежнее напрямую взаимодействовать с крупными интернет-провайдерами, расположенными на их же территории или при любых обстоятельствах зависимыми от них (финансово, информационно, экономически, технически), нежели с равными им в формальном плане международно-правовыми партнерами (другими государствами). Данную объективную закономерность надо просто-напросто учитывать при анализе последствий воплощения разнообразных новомодных концепций вроде «электронного (цифрового) государства», «электронного (цифрового) правительства», «электронного (цифрового) правосудия», «электронного (цифрового) уголовного дела» и т. п., особенно когда речь идет о хранении государственно значимой информации и обеспечении уголовно-процессуального доступа к ней. При дальнейшем развитии данных концепций международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции, основанное на взаимном признании соответствующими государствами суверенитета друг друга и связанных с ним классических подходах, вовсе потеряет для некоторых наиболее сильных государств какой бы то ни было резон. Они смогут сконцентрироваться исключительно на своих уголовно-процессуальных отношениях с интернет-провайдерами как новыми участниками уголовного судопроизводства, подчиняя их национальному правовому регулированию и односторонне собирая любую значимую информацию, формально (причем после «цифровизации» именно формально) принадлежащую иностранным государствам, в рамках внутреннего нормативного уголовно-процессуального пространства – не выходя за его границы и не нуждаясь в помощи остальных государств.
Задача уголовно-процессуальной науки – обозначить соответствующие закономерности, что мы и попытались сделать. Остальное – политический выбор, не имеющий к науке никакого отношения и не способный на эти закономерности повлиять, будучи в состоянии лишь их учесть. Во всяком случае, в аспекте изучаемых нами проблем нет ни малейших сомнений, что тотальная уголовно-процессуальная цифровизация, если таковая, паче чаяния, состоится111, приведет к появлению у отдельных государств возможности самопроизвольного одностороннего расширения собственного суверенитета (в его уголовно-процессуальном преломлении) за счет, разумеется, фактического ограничения суверенитета других государств, причем было бы наивно полагать, что Россия войдет в число первых, а не вторых.
Подводя итог проблеме самопроизвольного расширения суверенитета в целом, сделаем общий вывод: если в первом из рассмотренных случаев, связанном с принципом универсальной юрисдикции, такого расширения в строго уголовно-процессуальном смысле все-таки не происходит, особенно когда мы оставляем за скобками сомнительные полицейские (оперативно-розыскные) практики, то во втором случае, где идет речь о цифровизации и иных способах получения доказательств на территории иностранных государств, оно, безусловно, имеет место, чему в значительной мере способствуют попытки радикальной и глобальной цифровизации уголовного судопроизводства.
§ 3. Внешнее вмешательство в нормативную организацию государством уголовного судопроизводства под эгидой глобализации и защиты прав человека
Государство, разумеется, по-прежнему остается единственным легитимным источником уголовного судопроизводства. Несомненное размывание государственного уголовно-процессуального суверенитета, которое мы наблюдаем в связи с определенными тенденциями по его самопроизвольному ограничению (в Европейском Союзе) или столь же самопроизвольному расширению (через принцип универсальной юрисдикции и экстерриториальный доступ к информации, прежде всего цифровой) некоторыми государствами, ничего в этом плане не меняет. Если в случае с европейскими ордерами на арест и на производство следственных действий, знаменующими собой максимальное на данный момент в формальном плане самоограничение государственного суверенитета в уголовно-процессуальной сфере, попытки поиска нового источника легитимности еще просматриваются (Европейский Союз), хотя последний все равно опирается на действия и решения составляющих его государств, что мы видим на многочисленных примерах, в том числе британском, то применительно к универсальной юрисдикции, экстерриториальному доступу к цифровой и нецифровой информации и т. п. таких источников нет и быть не может в принципе: все универсальные и экстерриториальные, цифровые и «нецифровые» действия по самопроизвольному расширению своего государственного суверенитета основываются исключительно на национальном праве того или иного государства и ни на чем больше, прекрасной иллюстрацией чему является новейшее уголовно-процессуальное законодательство США (Cloud Act и др.). Ясно, что никакая цифровизация, будучи движением сугубо технологическим и подчас идеологическим, сама по себе новых источников легитимности в правовом смысле создать не в состоянии. Можно сколь уголовно экзальтированно восклицать о цифровой среде, блокчейне, криптовалютах, децентрализации, исчезновении национальных государств или, допустим, «сокращении государственного контроля», «снижении уровня ответственности государств» и т. п., однако все эти восклицания в конечном итоге завершаются маловразумительными утверждениями об одновременной редукции «возможности правовой защиты (например, судебной) правоотношений»112, т. е. по сути отрицанием права вообще. Иначе говоря, подобные векторы анализа не только не приводят к обнаружению каких-либо внятных альтернативных источников легитимности, но оканчиваются констатацией фактически полного отмирания права, причем даже не уголовно-процессуального, а права в целом, включая частное, т. е. дискурсом сугубо утопическим и нигилистским. Нас он поэтому в контексте данного анализа интересует мало.
Однако невозможность юридически поколебать роль государства как единственного легитимного творца уголовного судопроизводства отнюдь не означает, что такие попытки не предпринимаются фактически. Напротив, они давно превратились в очевидную современную реальность, причем чем в меньшей степени их удается корректно обосновать с помощью сугубо правовых конструкций, понятий, концепций и механизмов, тем динамичнее они становятся политически и геополитически. Другими словами, правовая недостаточность компенсируется здесь методами не правовыми, а от права далекими, лежащими в плоскости геополитической активности, политического лоббирования, информационного давления и т. п. Возникает очевидное вмешательство в уголовно-процессуальную правотворческую деятельность государства, которое подчас трудно или даже невозможно уловить в правовом измерении, поскольку оно во многих случаях не вписывается в традиционное для юристов описание действия правовых институтов, в том числе призванных конструировать право в его нормативности.
Такое вмешательство сложно не только иногда уловить, но и оценить. С одной стороны, будучи в каких-то ситуациях вовсе юридически невидимым, а в других – видимым, но опирающимся на государственную легитимность, оно формально никак государственный уголовно-процессуальный суверенитет не ограничивает, что позволяет поддерживать юридический доктринальный дискурс в традиционных рамках, когда всё решает государство, его законодатель, судебные и правоохранительные органы и т. п. С другой стороны, нельзя отрицать, что такого рода вмешательство уголовно-процессуальный суверенитет государства все-таки подтачивает, причем значительно, и мимо данного феномена пройти сегодня невозможно. Это вынуждает его рассматривать и анализировать, выходя иногда за границы традиционной для правовой доктрины повестки дня. Впрочем, к проблеме разграничения формального и фактического законодателя, без учета которой трудно определить степень суверенности государства в нормативной уголовно-процессуальной сфере, мы еще далее вернемся113.
Заметим, что внешнее вмешательство в институциональную организацию государством своего уголовного судопроизводства осуществляется главным образом по линии двух современных идеологем: 1) защиты прав человека; 2) глобализации. В наши задачи не входит мало-мальски подробное рассмотрение каждой из них как таковых, тем более что литература в обоих случаях безбрежна114. Ясно также, что разница между ними условна, поскольку защита прав человека также давно уже стала глобальной, т. е. одним из проявлений глобализации. Речь скорее в оттенках или, если угодно, углах зрения.
Во-первых, если в целом защита прав человека, безусловно, имеет глобальный характер, то наиболее ее эффективные механизмы к глобальным в строгом смысле не относятся, будучи в большей степени отражением регионализации, нежели глобализации, так как действуют для ограниченного круга государств с учетом в том числе географических критериев (ЕСПЧ и т. п.). Это не позволяет полностью отождествлять глобализацию и защиту прав человека или, допустим, считать вторую исключительно одним из направлений первой, а вынуждает расценивать их все-таки как автономные идеологические феномены.
Во-вторых, опасаясь, видимо, упреков в идеологической монополизации, глобализацию редко рассматривают в ценностном измерении, делая упор на ее экономической, технологической, технократической и т. п. составляющих и отчасти выводя тем самым из-под прицела сугубо политической критики. Ценностное наполнение защиты прав человека, напротив, сомнений не вызывает: «права человека стали обязательным основанием любого современного дискурса»115. При всем стремлении показать, что речь идет о категории уже юридической, а не идеологической, поскольку всеобщее нормативное закрепление прав человека знаменует собой «переход от идеологии к праву»116, нам ясно, что такой анализ может иметь место лишь в формальной плоскости. На самом деле, придание тому или иному положению формально обязательного характера вовсе не приводит к утрате им в соответствующих случаях ценностно-идеологической сущности, а скорее отражает этап еще большей идеологизации, когда чисто ценностные категории начинают обеспечиваться санкционирующим правовым воздействием, что означает не более чем возведение идеологии «в закон». Ни на что подобное глобализация как таковая пока не претендует.
Отсюда, в-третьих, вытекает еще одно отличие: будучи возведенной в ранг нормы права и повсеместно обязательной (в том числе для государств), идеология прав человека получает возможность обеспечиваться и влиять на национальное уголовное судопроизводство через призму не только soft law или каких-то внеинституциональных методов воздействия, но и подлинных процессуальных правовых механизмов, что мы видим в Европе на примере ЕСПЧ. В случае с идеологией глобализации ничего такого, конечно, нет: ей остается воздействовать на государство исключительно посредством либо так называемых регуляторов в духе «мягкого права» или политико-экономического давления, либо вовсе «закулисных» лоббистских инструментов, так как никакими эффективными процессуальными инструментами наподобие ЕСПЧ она не располагает, по крайней мере, в уголовно-процессуальной сфере.
Наконец, в-четвертых, идеология прав человека имеет возможность влиять на уголовное судопроизводство с помощью механизмов не только институционально видимых, но и задействующих государственную легитимность в ее полном объеме, таких как международный договор, возложение на государства формально-юридических обязанностей по защите соответствующих ценностей и подходов и т. п., в силу чего большой необходимости в «закулисных» нормотворческих маневрах здесь нет – действовать можно открыто, вынуждая государства принимать соответствующие законодательные решения под предлогом выраженной ими когда-то «суверенной воли» следовать международным обязательствам в целом и каким-то конкретным обязательствам в частности. Применительно к идеологии глобализации формально-юридические инструменты и государственная легитимность помочь чаще всего бессильны: остается развивать ее иначе, иногда даже сугубо неформальным путем, который в правовой системе координат почти неосязаем.
С учетом наличия двух отмеченных фундаментальных современных идеологем (защита прав человека и глобализация), а также отмеченных отличий между ними, которые мы обозначили и забывать не намерены, можно выделить по формальным основаниям три направления внешнего вмешательства в институциональную организацию государствами их национального уголовного судопроизводства: 1) официальное процессуальное вмешательство, которое полностью легитимируется государством, обеспечивается специальными наднациональными процессуальными механизмами и наиболее ярко проявляется в европейском, т. е. региональном, ракурсе, прежде всего на примере ЕСПЧ; 2) официальное непроцессуальное вмешательство, которое также легитимировано государством, но в меньшей степени, и чаще всего выражается в различных рекомендациях, причем как глобальных, так и региональных; 3) неофициальное вмешательство, которое в большинстве случаев вовсе не имеет институциональной правовой компоненты, отчего не выглядит менее значительным, находя отражение в самых разных аспектах.
Ясно, что движение от первого к третьему направлению демонстрирует нарастание феномена глобализации: его почти нет в первом случае, если иметь в виду конкретные наднациональные эффективные процессуальные механизмы, но он самым отчетливым образом выражен в третьем (неофициальное вмешательство). Что касается защиты прав человека в целом (как идеологии), то она характерна для всех трех направлений, хотя в рамках первого их них обладает эксклюзивной природой, а в рамках, допустим, третьего проявляется лишь как одна из ветвей развиваемой главным образом путем неофициального вмешательства глобализации. Иначе говоря, по мере движения от официального процессуального до неофициального вмешательства защита прав человека становится все более глобальной и все менее эксклюзивной и региональной, проявляясь на всех континентах, но отчасти растворяясь в потоке других глобальных уголовно-процессуальных инициатив, призванных повлиять на уголовно-процессуальное строительство государств.
Кроме того, надо учитывать, что все три направления или, если угодно, формы вмешательства совсем не обязательно должны быть полностью изолированы друг от друга. Напротив, они подчас столь сильно переплетены, что отделить одну от другой весьма непросто, в чем нам еще предстоит убедиться. Скажем, официальное процессуальное вмешательство может прямо или косвенно опираться на вмешательство неофициальное и т. п. Этот аспект проблемы также надо принимать во внимание.
Рассмотрим теперь последовательно все три обозначенных направления, отдавая себе отчет в их взаимном переплетении и проникновении.
3.1. Официальное процессуальное вмешательство в организацию государством своего уголовного судопроизводства
Такого рода вмешательство предполагает наличие наднациональных судебных или квазисудебных органов, чьи решения либо являются для государства обязательными, либо учитываются им, причем не только ad hoc (применительно к конкретным делам), но и на нормативном уровне – в ходе построения или реформирования своего уголовного судопроизводства. Понятно, что в силу принципа государственного суверенитета наднациональный суд (квазисудебный орган) вправе вмешиваться в уголовно-процессуальную правотворческую деятельность государства исключительно не просто с согласия, но и по воле последнего, выраженной в международном договоре, как правило, многостороннем. Это и позволяет нам считать такое вмешательство: а) официальным (оно легитимировано государством и имеет правовые основания) и б) процессуальным (оно осуществляется в строгих институциональных рамках и обладает судебной или квазисудебной природой).
Для права наличие международных (наднациональных) судов не является чем-то экстраординарным или даже новейшим. Другое дело, что классический подход исходил из того, что доступ к ним «обычно имеют только государства»117, поскольку международные суды являются исключительно способом разрешения межгосударственных споров и ничем иным. К уголовному судопроизводству они не имели и не могли иметь никакого отношения. Ситуация, строго говоря, не изменилась даже с появлением более нового феномена – создания международных уголовных судов: ранее только ad hoc (Нюрнбергский и Токийский трибуналы, международный трибунал по бывшей Югославии – МТБЮ, Международный трибунал по Руанде – МТР и др.), а сегодня и постоянно действующего (МУС)118. В данном случае с уголовным судопроизводством мы, разумеется, уже сталкиваемся, но с уголовным судопроизводством особого рода – международным, которое не имеет ни малейшей институциональной связи с уголовным судопроизводством как таковым, никак в него не вмешивается (ни в правотворческом, ни в правоприменительном смысле) и способно повлиять на уголовно-процессуальные прерогативы государства лишь в сугубо научном плане – как некий «внешний» опыт, сопоставимый разве что со сравнительно-правовым119. Другой новейшей тенденцией, выводящей международное правосудие за пределы чисто межгосударственных споров, стала наднациональная экономическая юстиция, расцветшая буйным цветом в рамках глобализации экономики в целом и различных интеграционных процессов в частности (ЕС, ЕАЭС и т. п.). Но к уголовному судопроизводству она, как мы понимаем, отношения не имеет, за исключением тех случаев, которые будут рассмотрены в главе III настоящей книги.
Отход от более или менее сложившихся в праве принципов, в соответствии с которыми международная (наднациональная) юстиция могла охватывать либо межгосударственные споры (классический вариант), либо споры не только межгосударственные, но сугубо экономические (новейший вариант), либо особые автономные уголовно-правовые споры международного уровня (еще один новейший вариант), что исключало даже саму постановку вопроса о внешнем официальном процессуальном вмешательстве в организацию государством своего уголовного судопроизводства, произошел одновременно с окончательным утверждением господства универсальной идеологии прав человека. Самой идеологемы мы здесь касаться не будем – она прекрасно известна и закреплена в таких фундаментальных актах разного уровня и разной юридической силы как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. Для нас важно другое: с одной стороны, идеологема поставила под сомнение способность государства суверенно, самостоятельно и без внешнего контроля решать вопросы обеспечения прав человека, что немедленно сказалось на отношении к уголовному судопроизводству, переставшему восприниматься как «внутреннее дело» государств, поскольку трудно найти правовую сферу, столь чувствительную к правам человека. При этом данная тенденция, проявившаяся поначалу исключительно на уровне принципов уголовного процесса, постепенно начала охватывать все более технические слои уголовного судопроизводства, выражая стремление к тотальному контролю за последним. С другой стороны, стали возникать специальные процессуальные механизмы, призванные не ограничивать контроль за уголовным судопроизводством тех или иных государств одним лишь политическим уровнем, распространив его также на уровень судебно-правовой или близкий ему.
Подобных механизмов не так мало. Некоторые из них являются максимально жесткими, функционируя, как правило, в рамках дошедших до высшей степени развития интеграционных объединений, когда экономическая интеграция постепенно стремится завоевать также политическое пространство, окончательно связав суверенитет государств, что не может не затронуть и уголовное судопроизводство. Очевидным и, по сути, единственным полностью реализованным воплощением такой интеграции выступает ЕС с его Судом справедливости Евросоюза (Court of Justice), роль которого в области уголовного судопроизводства становится все более заметной, что мы видим на примере европейского ордера на арест120. Не в последнюю очередь это связано с тем, что Суд Евросоюза сегодня вынужден волей-неволей вмешиваться и в сферу прав человека121, поскольку давно уже не рассматривается как сугубо экономическая инстанция. Впрочем, возвращаться к данному суду мы здесь не будем, о его уголовно-процессуальных решениях, непосредственно влияющих на уголовное судопроизводство государств ЕС, достаточно сказано ранее. Другие из интересующих нас механизмов, напротив, являются, скорее, мягкими, иллюстрацией чего служит, допустим, Комитет по правам человека ООН, который вправе рассматривать жалобы граждан и выносить по итогам рассмотрения так называемые соображения – они в правозащитном смысле влиятельны, часто касаются уголовного процесса, но обязательной для государств силой не обладают. Отдельные специалисты считают Комитет по правам человека ООН квазисудебным (квазиюрисдикционным) органом, хотя такая трактовка расценивается в литературе как спорная122. Как бы то ни было, но реальное влияние Комитета по правам человека ООН на организацию государствами своего уголовного судопроизводства очень существенным признать трудно: его деятельность – не самый яркий пример внешнего вмешательства в национальное уголовно-процессуальное право.