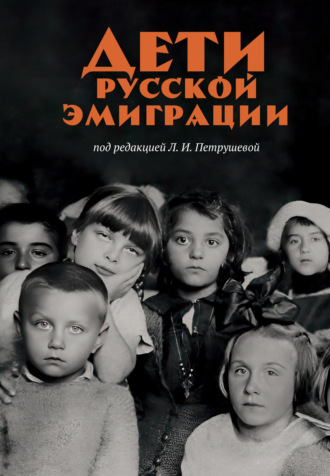
Дети русской эмиграции
Среди тех, кто в эмиграции посвятил свою жизнь служению детям, были А. В. Жекулина, известный в России педагог и общественный деятель, заместитель председателя Педагогического бюро по делам средней и низшей школы за границей, председатель Объединения русских учительских организаций за границей, А. П. Петров, бывший преподаватель Донского кадетского корпуса, директор русской школы ВСГ в Константинополе, затем директор Русской гимназии в Моравской Тржебове, В. Н. Светозаров, помощник директора Русской гимназии в Константинополе, затем директор Русской гимназии в Моравской Тржебове, сменивший на этом посту А. П. Петрова, директор Русской реформированной реальной гимназии в Праге, председатель Союза русских педагогов в Чехословакии, заместитель председателя Правления Объединения русских учительских организаций за границей, генерал А. А. Бейер, в прошлом преподаватель Константиновского военного училища, директор Шуменской русской гимназии, А. П. Дехтерев, воспитатель Шуменской русской гимназии, А. И. Тыминский, педагог, общественный деятель, бессменный директор Русской гимназии в Каунасе, и многие другие педагоги и воспитатели.
Участвуя в работе различных эмигрантских организаций, всемерно способствовали поддержанию русской школьной сети государственные, политические, общественные деятели, деятели науки и культуры – В. В. Руднев, известный в России и эмиграции политический и общественный деятель, последний московский городской голова, член Российского земско-городского комитета по оказанию помощи российским гражданам за границей (РЗГК), в составе которого около десяти лет занимался попечением о русских детях, автор многочисленных трудов о русской беженской школе, кн. П. Д. Долгоруков, общественный и политический деятель, постоянный член Педагогического бюро, с 1929 г. председатель Центрального фонда при ЦК Дня русского ребенка, кн. Г. Е. Львов, в прошлом депутат Государственной Думы, министр-председатель Временного правительства, председатель Правления РЗГК, П. П. Юренев, депутат Государственной Думы, министр путей сообщения Временного правительства, возглавлял Временный комитет Союза городов. Попечительский совет в русской школе «Александрино» в Ницце возглавил великий князь Андрей Владимирович. В 1921 г. основал и содержал на собственные средства приют-школу в Ариане (близ Ниццы) М. И. Рябушинский. Также на собственные средства содержала основанное ею общежитие для русских девочек в Сен-Клу (близ Парижа) выдающаяся русская балерина А. П. Павлова.
Огромную помощь в создании и поддержании деятельности русских детских учреждений, в том числе школьных, оказали дипломатические представители в разных странах. Интересы российской эмиграции в Верховном комиссариате по делам беженцев защищал представитель Совета послов К. Н. Гулькевич, в прошлом дипломатический представитель в Швеции.
Особая роль в судьбе русской беженской школы принадлежала представителям Русской православной церкви, многие из которых с самого начала беженства были в числе создателей русских школ и педагогов. Много внимания проблемам религиозного воспитания молодого поколения эмиграции оказывал митрополит РПЦ в Западной Европе Евлогий. Еще в 1921 г. было организовано Русское студенческое христианское движение (РСХД) во главе с проф. В. В. Зеньковским. В 1925 г. в Париже был открыт Свято-Сергиевский институт, который готовил священников для православных приходов во Франции и в других странах. В 1934 г. был открыт богословский факультет в Институте Святого князя Владимира в Харбине.
Много сил русской школе отдали российские ученые, которые стали авторами учебников, читали лекции учащимся, активно работали в составе организаций и объединений, занимавшихся постановкой школьного дела в разных странах. Среди них проф. В. В. Зеньковский, русский религиозный философ, председатель РСХД, первый председатель Педагогического бюро по делам средней и низшей школы, проф. Е. П. Ковалевский, председатель отдела средней школы Русской академической группы в Париже, уполномоченный по учебной части Российского общества Красного Креста, проф. Д. М. Сокольцев, проф. И. М. Малинин, проф. В. Д. Плетнев, проф. Н. М. Могилянский, проф. И. А. Базанов, проф. Г. В. Вернадский, проф. А. Л. Бем, проф. С. В. Завадский, проф. И. И. Лаппо, проф. С. А. Острогорский, проф. А. Н. Фатеев, проф. А. В. Флоровский и многие другие.
Во многом благодаря инициативе российских ученых было создано Педагогическое бюро по делам среднего и низшего образования за границей, о котором упоминалось выше. Идея о необходимости создания центра для координации деятельности организаций, занимавшихся русским школьным строительством в разных странах, высказывалась участниками 1-го (октябрь 1921 г.) и 2-го (октябрь 1922 г.) съездов русских академических организаций за границей. Образованное в апреле 1923 г. Педагогическое бюро с самого начала своей деятельности зарекомендовало себя одной из самых авторитетных организаций, созданных усилиями представителей российской эмиграции в межвоенный период. В первый состав бюро вошли: председатель проф. В. В. Зеньковский, тов. председателя А. В. Жекулина, казначей кн. П. Д. Долгоруков, секретарь проф. А. Л. Бем, члены президиума проф. А. П. Фан-дер-Флит, проф. С. И. Карцевский, М. Д. Аргунова, Д. Д. Гнедовский, М. А. Горчуков, А. И. Данилевский, А. А. Ких, З. А. Макшеев, проф. Н. М. Могилянский, В. В. Руднев, С. М. Рыжков, В. Н. Светозаров, М. И. Соболев, проф. Д. М. Сокольцов, М. Н. Стоюнина, Ф. С. Сушков. Представителями бюро в различных странах были: в Англии – Н. А. Ганс, в Бельгии – Е. М. Варшавер, в Болгарии – П. Н. Соковнин, в Германии – Ф. Ф. Штейнман, в Финляндии – К. А. Александров, во Франции – Е. П. Ковалевский, в Латвии – В. М. Тихоницкий, в Греции – С. В. Зубарев. С мая 1923 г. в Праге началось издание «Бюллетеня Педагогического бюро по делам средней и низшей школы за границей». К сожалению, Педагогическое бюро было вынуждено прекратить свою деятельность в начале 1930-х гг. Его члены, понимая, что это отрицательно отразится на положении русских школ, предприняли шаги к тому, чтобы перенести свою деятельность в США. Однако этого сделать не удалось.
Созданию широкой сети школьных учреждений в разных странах Европы способствовала деятельность и других эмигрантских организаций, например таких, как Российское общество Красного Креста, Комитеты русских эмигрантов в Эстонии и Латвии, Русский попечительный Комитет в Польше, Объединение русских учительских организаций, Союз русских педагогов в Чехословацкой Республике и многие другие.
Несомненно, очень весомый вклад в русское школьное дело внесли земско-городские объединения, восстановившие свою деятельность за рубежом, чей опыт был востребован и использован. Среди них Российский земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей, Всероссийский союз городов, Временный главный комитет Всероссийского союза городов за границей, Всероссийский земский союз. Несмотря на то что объединения земских и городских деятелей были созданы для оказания всех возможных видов помощи – от создания бесплатных столовых до переселения беженцев в другие страны, – их роль в организации русских школьных заведений очевидна и бесспорна.
Благодаря настойчивой и целенаправленной деятельности представителей российских общественных организаций к оказанию помощи детям русских беженцев удалось привлечь внимание целого ряда международных организаций. Еще в Константинополе помощь русским беженцам была оказана Американским Красным Крестом, Международным комитетом Красного Креста, Христианским союзом молодых людей и др.
Большое значение для эмигрантских организаций, занятых созданием русских школьных учреждений, имело тесное сотрудничество с организованным в 1921 г. Верховным комиссариатом по делам беженцев при Лиге Наций, главой которого был норвежский полярный исследователь Ф. Нансен. Забота о русских детях, если и не являлась первоочередной задачей Верховного комиссариата, то все же относилась к категории важных. Представители РЗГК, РОКК и Совета послов входили в состав Совещательного комитета частных организаций при Верховном комиссариате Лиги Наций. При непосредственном участии Верховного комиссариата был осуществлен перевод русских детских учреждений, в том числе и школьных, из Турции в другие страны Европы. Решение этой задачи явилось важным фактором в создании широкой сети русских учебных заведений.
Большую роль Верховный комиссариат, а с 1931 г., после его ликвидации, Международное бюро имени Нансена сыграли в решении вопроса финансирования русских школьных учреждений. Как известно, эти организации не имели собственной финансовой базы, но они могли успешно содействовать поиску необходимых денежных средств у различных международных благотворительных и кредитных организаций. Особенно необходимой эта помощь становится в конце 1920-х – 1930-е гг., когда большинство стран мира охватил экономический кризис. Нехватка средств привела к нарастанию кризисных явлений в развитии русского школьного дела.
Однако следует признать, что самая большая заслуга в создании и деятельности русских школ принадлежала русским педагогам и воспитателям, которые в этих тяжелейших условиях не оставили своего благородного дела. Без их подвижнического труда, без их беззаветной преданности своему делу и долгу работа русской школы просто не состоялась бы. В большинстве случаев именно педагоги-эмигранты стали организаторами русского школьного дела за рубежом. Нельзя не согласиться с воспитателем Шуменской русской гимназии, А. П. Дехтеревым, который на съезде педагогов в Софии в 1929 г. сказал: «Здесь не служба, но служение детям, служение национальному русскому делу»[7]. Вся история русского школьного строительства в разных странах русского рассеяния подтверждает этот вывод.
Немало русских учителей оказалось в числе многих тысяч российских граждан, вынужденных покинуть Россию. Некоторые из них эвакуировались вместе со школами или в составе белых армий, некоторые выехали со своими семьями. Значительную часть русских педагогов за границей представляли учителя «имперских школ», которые оказались в изгнании в результате образования новых государств, возникших на территории бывшей Российской империи. Большую группу составили учителя, которые ранее не занимались педагогической деятельностью, но, оказавшись в эмиграции, пришли в беженскую школу, понимая необходимость обеспечения детей образованием в национальной школе.
Можно привести многочисленные примеры, когда учителям приходилось вместе со своими учениками ремонтировать школьные здания, проводить уроки в устной форме, самим готовить учебные пособия. Трудности в преподавании заключались еще и в том, что в одном классе проводились одновременно уроки для младших и старших школьников, среди которых были вполне взрослые юноши, старше 20 лет. Нередки были случаи, когда учителя по нескольку месяцев не получали заработанной платы, единственного источника их существования.
К числу подобных примеров можно отнести условия жизни и работы педагогов школы, созданной в 1921 г. для русских детей в беженском лагере в Салониках. Школа располагалась в бараке, в помещении бывшей операционной французского военного госпиталя, окна в котором были заклеены бумагой. К тому же условия пребывания здесь учителей и учащихся усугублялись тем, что лагерь располагался в малярийной местности, что не могло не отражаться на состоянии здоровья его обитателей.
Однако судьба русской национальной школы, особенно в начальный период беженства, зависела не только от экономического положения тех стран, где была открыта. Положение учителя было связано с отношением властей и общественных кругов той или иной страны к эмиграции из России в целом. В каждой из принимавших стран, где были созданы русские школьные заведения, имелись особенности в положении русского учителя.
Очень сложным оказалось положение русских педагогов в лимитрофных государствах, в которых часть выходцев из России находилась на положении национальных меньшинств, другую часть представляли беженцы из Советской России. Политика властей этих стран, направленная на выдавливание русскоязычного населения, не могла не привести к ухудшению его правового положения и, как следствие, к ухудшению положения русского учителя.
Так, в Бессарабии и Польше процесс разрушения русской школы начался еще в 1918 г., число русских учебных заведений резко сократилось, русские учителя, отказавшиеся принять гражданство этих стран, подлежали увольнению.
Не менее трудными были условия жизни русского национального меньшинства в прибалтийских странах, где число русских учебных заведений также значительно сократилось, правовое положение русского педагога стало сложным. К тому же многим из них, чтобы обеспечить себе сносное существование, приходилось искать дополнительный источник дохода. Например, в Финляндии учителя беженских школ, открывавшихся, как правило, в пригородных районах, годами безвыездно жили в дачных домиках даже в зимнее время. Работа русского учителя-эмигранта оплачивалась не только ниже работы финского учителя, но и ниже работы чернорабочего. До 1917 г. размер оплаты труда учителя в Финляндии, которая в составе Российской империи имела права автономии, был выше, чем в других регионах России. В Эстонии в летнее время, когда школьники были на каникулах, учителя ради куска хлеба вынуждены были заниматься добычей торфа, сланца, погрузкой бревен на баржи, погрузкой вагонов и др. К категории легких заработков относилась прополка огородов, сбор овощей, рыбная ловля, работа кухаркой или няней.
Отличительной особенностью пребывания русских эмигрантов в странах Центральной и Западной Европы являлась возможность для русских детей получать бесплатное начальное образование в государственных школах. Поэтому даже в таких крупных центрах российской эмиграции, как Германия и Франция, не сложилось широкой сети русских школьных заведений, способных обеспечить образование большому числу детей русских эмигрантов. Отсюда немногочисленный состав учителей, занимавшихся преподавательской деятельностью. При этом их положение и условия деятельности также нельзя было признать хотя бы стабильными.
Наиболее благоприятным признавалось положение русского педагога в славянских странах – Чехословакии, Югославии и Болгарии.
В Чехословакии создание русской школы являлось важной составной частью плана по оказанию помощи российской эмиграции, получившего название «русская акция». Все русские дети имели возможность учиться в русских учебных заведениях.
Именно в Чехословакии сосредоточились почти все центральные эмигрантские культурно-просветительские организации. Прага была центром жизни зарубежного русского учительства и русского школьного строительства. Достаточно отметить, что здесь были проведены три съезда представителей русских академических организаций – в 1921, 1922, 1924 гг., два съезда деятелей средней и низшей школы – в 1923 и 1925 гг., съезд по дошкольному образованию – в 1927 г., съезд по внешкольному образованию – в 1928 г., три съезда русских студентов – в 1921, 1922, 1924 гг., три съезда Объединения русских учительских организаций за границей. Здесь осуществляло свою деятельность Педагогическое бюро по делам средней и низшей школы, координировавшее работу русских школьных учреждений в разных странах. Здесь же издавался журнал «Русская школа за рубежом».
В беженской школе работа учителя была поручена не только профессиональным педагогам, но и представителям других профессий, среди которых были инженеры, врачи, чиновники, офицеры и др. К работе зачастую привлекали тех, кто раньше занимался частным преподаванием или репетиторством. Нередко число занявшихся преподавательской деятельностью превышало число профессиональных педагогов. Например, в Болгарии в 1924 г. из 125 педагогов, работавших в русских школах, высшее образование имели 65 человек, среднее – 41 человек. Но процент профессиональных педагогов был невысоким. В Софийской гимназии общее число преподавателей составляло 20 человек, из них профессиональных педагогов было только десять человек, в Галлиполийской гимназии – из 17 преподавателей только семь были профессиональными педагогами, в Шуменской гимназии – из 15 преподавателей только пять, в Пещерской гимназии из 12 преподавателей только два имели высшее педагогическое образование.[8]
Необходимость улучшения условий преподавательской деятельности и материального положения русских учителей способствовала созданию во всех странах, где обосновались русские эмигранты, уже в начале 1920-х гг. профессиональных учительских организаций. Однако со временем стало очевидным, что появилась также необходимость в создании организации, которая могла бы объединить русских педагогов из разных стран и координировать работу их союзов и объединений.
Начало объединению учителей положил съезд деятелей средней и низшей школы, созванный и проведенный в Праге в апреле 1923 г., на который прибыли полномочные представители школьных учреждений из разных стран – Чехословакии, Германии, Франции, Англии, Болгарии, Польши, Финляндии, Латвии, Эстонии, Бельгии. Ряд делегатов, представлявших учительские союзы, приняли участие в организационном съезде русских педагогов, на котором было создано Объединение русских учительских организаций за границей. Главной задачей Объединения в первую очередь являлась забота об образовании русских детей, всемерное содействие в трудоустройстве своих членов, облегчение их материального положения, защита прав, установление связей с другими учительскими организациями и правительственными учреждениями, подготовка кадров для будущей России. При создании Объединения, без сомнения, был использован опыт работы существовавшего еще в России Всероссийского учительского союза, членами которого являлись многие педагоги-эмигранты. В 1928 г., когда отмечался пятилетний юбилей создания Объединения, в ознаменование этого события был выпущен значок с изображением К. Д. Ушинского, который носили учителя русских эмигрантских школ.
Исполнительным органом Объединения являлось Правление, которое ежегодно переизбиралось на делегатских съездах. Правление состояло из девяти человек, из которых пять должны были проживать в Праге и быть членами Союза русских педагогов средней и низшей школы в Чехословакии, остальные четыре представляли педагогические объединения в других странах: один член от Польши, один – от балканских стран, один – от западноевропейских стран и один – от прибалтийских государств. В первый состав Правления были избраны: А. В. Жекулина (председатель), В. Н. Светозаров, А. П. Петров, В. С. Грабовый-Грабовский, В. А. Ригана, Н. А. Ганс (представитель Англии, Франции, Бельгии, Германии), Н. Н. Кузьминский (представитель Латвии, Эстонии, Финляндии).
Выполняя решения 1-го делегатского съезда, Правление много внимания в своей деятельности уделило разработке проектов «Положения об управлении эмигрантской школой», «О правах и обязанностях педагогического персонала и школьной администрации», которыми должны были руководствоваться русские школьные заведения в разных странах.
Уже в начальный период своей работы Правление провело обследование положения русских учителей. Через своих представителей в разных странах и в результате переписки с местными учительскими объединениями Правление организовало распространение специально разработанных анкет среди педагогов, с которыми удалось установить связь. В результате были собраны сведения о положении учителя-эмигранта, условиях его жизни, правовом положении. Полученные данные позволили составить обзоры положения педагогов в Европе и Маньчжурии, вошедшие в книгу «Русский учитель в эмиграции», изданную в Праге в 1926 г.
В течение всего периода деятельности Правление Объединения русских учительских организаций за границей много внимания уделяло решению вопросов, связанных с ухудшением положения русских педагогов в разных странах и старалось своевременно вмешаться с целью оказания им необходимой помощи. Один из многочисленных примеров. В марте 1924 г. Министерство народного просвещения Латвии приняло решение об увольнении 75 % всех учителей-иностранцев, в том числе увольнение грозило 80 русским учителям. Немалую роль в том, что было уволено только 16 человек, сыграло Правление Объединения русских учительских организаций за границей.[9]
Вопросы трудоустройства оставшихся без работы педагогов были в числе приоритетных задач, стоявших перед Объединением. Серьезные попытки трудоустроить безработных педагогов предпринимались не только в европейских странах, но и в США. В результате проведенных переговоров Американское общество по образованию предложило Объединению русских учительских организаций предоставить сведения о русских педагогах за границей с тем, чтобы включить их в кандидатский список на учительские места в США. Однако желающих переехать в США в тот период оказалось всего девять человек.[10]
К числу важнейших задач, стоявших перед Правлением, относилось содействие созданию учительских организаций в тех странах, где процесс создания еще не был завершен или не начинался. В число таких стран вошли Франция, Бельгия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва. Правление Объединения предпринимало все возможные меры, чтобы активизировать работу по созданию педагогических организаций в этих странах.
На момент проведения 1-го делегатского педагогического съезда в 1924 г. в состав Объединения русских учительских организаций за границей входили две учительские организации от Греции, две от Болгарии, две от Югославии. Поэтому большое внимание Правление стало уделять работе по объединению в каждой из указанных стран существовавших там отдельных разобщенных учительских организаций в одну. Если объединение учительских организаций в русских гимназиях в Салониках и Афинах произошло относительно легко и в 1925 г. был создан Союз русских педагогов в Греции, то более трудной задачей оказалось объединение учительских организаций в Болгарии и Югославии. Главной причиной такого положения явились острые идейные разногласия в учительской среде, которые в тот период давали мало надежд на вхождение каждого из педагогов, даже при условии профессиональной заинтересованности, в единую организацию, в которой состояли членами его политические противники.
Со временем эту проблему удалось решить только в Болгарии. Общее число русских преподавателей в Болгарии к этому времени составляло 224 человека. Из них 125 человек работали в русских учебных заведениях. 99 человек – в болгарских школах, и являлись членами Объединенного союза болгарских учителей[11]. В ноябре 1924 г. в Софии состоялся съезд русских педагогов, на котором преподаватели русских учебных заведений объединились в Союз русских педагогов в Болгарии. До этого времени в стенах одного учебного заведения – Шуменской русской гимназии – существовало две организованные группы русских учителей, каждая из которых имела свой устав. Обе группы в своей деятельности противостояли друг другу, попытки их объединения до созыва съезда ни к чему не приводили.
В Югославии обучалась примерно половина детей эмигрантов, посещавших русские школы в Европе. Здесь осуществляли свою деятельность около 300 русских педагогов, которые неоднократно предпринимали попытки создать профессиональные объединения[12]. Еще в 1921 г. здесь был образован Союз русских педагогов в Королевстве СХС. Однако в 1925 г. из-за идейных разногласий из его состава вышли некоторые члены, которые создали Русское педагогическое общество, объединившее в своем составе 87 членов[13]. Председателем Общества был избран профессор А. П. Доброклонский. В октябре 1923 г. начал свою деятельность Союз деятелей русской демократической школы на Балканах во главе с профессором В. Д. Плетневым. В него входило 24 члена[14]. В феврале 1924 г. было создано Общество преподавателей русских учебных заведений, находящихся на территории Королевства СХС. Председателем Общества был профессор И. М. Малинин. Число членов Общества составляло примерно 120 человек[15].
Правление Объединения русских учительских организаций за границей предприняло меры, способствовавшие объединению сохранивших свою деятельность организаций. Однако положительных результатов добиться не удалось. В состав Объединения русских учительских организаций за границей по-прежнему самостоятельными членами входили две учительские организации – Союз деятелей русской демократической школы на Балканах и Общество русских преподавателей в Королевстве СХС.
Члены Правления проводили большую работу по установлению связей с отдельными учителями, в том числе в странах с малочисленной эмиграцией. Сведения, полученные из Венгрии, Австрии, Италии и вольного города Данцига, показали, что только Италия и город Данциг имели относительно большое число проживавших там учителей. В таких условиях не возникало необходимости в создании профессионального союза русских педагогов. При этом отдельные педагоги из этих стран поддерживали тесные связи с Правлением Объединения.
К июлю 1926 г., когда в Праге был проведен 3-й делегатский съезд педагогов, в состав Объединения русских учительских организаций за границей входили: Общество русских педагогов в Болгарии, Союз русских педагогов в Греции, Союз деятелей русской демократической школы на Балканах (Югославия), Общество русских преподавателей в Королевстве СХС, Объединение русского учительства в Финляндии, Союз русских преподавателей в Германии, Педагогический совет русской гимназии в г. Данциг, Союз русских педагогов средней и низшей школы в Чехословацкой Республике, Объединение русских учителей в Англии, Союз русских учителей-эмигрантов в Эстонии, Союз русских педагогов во Франции. Не входили в состав Объединения, но имели с ним тесные контакты: Союз русских учителей в Латвии, Ковенское товарищество русских преподавателей, Варшавская группа русских учителей, ряд русских учителей в Италии. Не входили в состав Объединения учительские объединения в Китае, хотя попытки привлечь их к работе были сделаны. В дальнейшем особых изменений в организации учительских союзов не произошло. Правда, со временем некоторые из них закрылись. Например, Варшавская группа русских учителей к 1926 г. прекратила свое существование.

