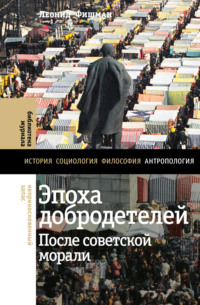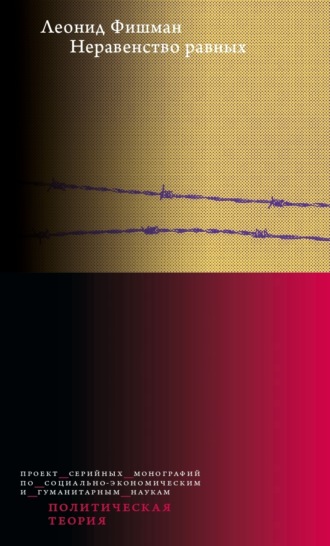
Неравенство равных. Концепция и феномен ресентимента
Правда, мы должны отметить, что пассаж великого поэта иллюстрирует ситуацию, до известной степени обратную описанным выше. Здесь также присутствует сильный отзвук ресентимента, но теперь страдающей стороной в отношениях неравенства равных становятся, напротив, потомки древних родов. Это особенно характерно для России, где в XVIII и в начале XIX века «государство осыпало благодеяниями придворную аристократическую элиту, однако и провинциальные дворяне имели возможность подняться на самую вершину военной или гражданской бюрократической лестницы… Открытая перед рядовыми дворянами возможность продвижения наверх в действительности являлась одним из ключевых условий, обеспечивших как процветание послепетровской монархии, так и лояльность дворянства по отношению к абсолютистскому государству»[71]. Мы можем предположить, что такая возможность подъема на позиции, близкие к вершине, также являлась и источником ресентимента: дослужившийся до высокого положения неродовитый дворянин не мог не думать, что его титулованным собратьям по классу то же самое далось значительно легче; что для последних, к примеру, служба в кавалергардах – все равно что членство в престижном клубе, которое они себе могут позволить, ибо расходы на такое членство превышают жалованье и т. д.
Софи Калдор определяет ресентимент как долгосрочное отношение или «эмоциональную установку», направленную на враждебный внешний объект, который, по мнению обиженного человека или группы, имеет незаслуженный статус[72]. Но именно такого рода долгоиграющие эмоциональные установки характерны для социального бытия аристократии, потому что оно подразумевает наличие множества близких по статусу, но не совпадающих позиций, что порождает постоянное их сопоставление, соперничество, зависть. Мария Оссовская по этому поводу писала, что «титулованное дворянство, нетитулованное дворянство, провинциальное джентри – все они считали себя наследниками рыцарских традиций, но говорили часто разными голосами. <…> Отличать высшее дворянство от заурядного тем более необходимо, что между ними нередко существовал антагонизм, хотя вместе они и составляли привилегированное сословие»[73]. Какие-нибудь сквайры терпеть не могли лордов, считая их придворными блюдолизами; нравы света им глубоко отвратительны. Вместе с тем ряд коллизий влечет и сближение статусов высших классов, которое в Англии порождает стремление описывать различных их представителей как «джентльменов». В связи с этим характерны старания буржуа дать такое определение джентльмена, которое подошло бы и к разбогатевшим мещанам. «Типичным примером было предпринятое Даниелем Дефо различение между джентльменами по происхождению и джентльменами по воспитанию и образованию. Лишь последние, по его мнению, заслуживают звания джентльмена. Это происходило уже в XVIII веке, когда возросли и значение, и притязания “среднего класса”; но тенденция ставить происхождение позади личных достоинств джентльмена появилась гораздо раньше. Эти достоинства выдвигает на первый план Чосер, происходивший из разбогатевшей бюргерской семьи. Еще раньше мнение, согласно которому благородство определяется исключительно характером, упорно повторяется во Франции. Около 1290 года Жан де Мён, соавтор “Романа о Розе”, обстоятельно доказывал, что благородство зависит от добродетелей человека. Персонифицированная Природа говорит здесь: “Привычно слушать от людей, // Надутых важностью своей, // Что человек, чей знатен род // (Как говорит о нем народ), // По праву самого рожденья // Заслуживает предпочтенья // Пред тем, кто на земле корпит // И, не трудясь, не будет сыт. // По мне же, благороден тот, // Кто добродетелью живет, // А подлым я б назвать могла // Того лишь, чьи дурны дела”. “Чтоб благородство сохранить, – читаем мы дальше, – Достойным предков надо быть, // Что славное сыскали имя // В свой век заслугами своими. // Но предки, век окончив свой, // Заслуги унесли с собой, // Оставив лишь богатство детям. // Они ж довольствуются этим // И, кроме этого, у них // Заслуг нет вовсе никаких, // Когда достойными делами // Они не вознесутся сами”»[74]. Мы без труда можем заметить, что близость социальных позиций (или претензия на таковую) порождает неоднократно упомянутую «переоценку ценностей» в ницшевском духе. Тут и приоритет джентльменов по воспитанию и образованию перед джентльменами по происхождению, и определение благородства как следствия личных качеств, а не принадлежности к знатному роду, и утверждения, согласно которым бедность вполне совместима с дворянством, а звания джентльменов вполне достойны, например, врачи и адвокаты, ибо они не работают рукам[75].
Еще одним источником ресентимента является различие между аристократией завоевателей и аристократией покоренных народов. По крайней мере, во Франции времен Старого порядка эта разница осознавалась четко и для многих представителей дворянства шпаги была важным источником самоидентификации, равно как и причиной противопоставлять себя дворянам мантии, не говоря уже о простолюдинах. Дворяне шпаги не упускали случая напомнить, что они являются потомками завоевателей-франков. Дворяне мантии и представители третьего сословия подхватили этот вызов и приступили к переоценке ценностей, представляя себя как более образованную, продуктивную, творческую часть элиты, в отличие от ограниченной и по большому счету паразитической части военной аристократии. В этом случае мы имеем дело с ситуацией, начинавшейся с типичного ресентимента, который культивировали в себе представители галло-римской знати, попавшие в подчинение варварам-франкам. Надо к тому же заметить, что галло-римская аристократия была в большой мере христианизирована и образованна и поэтому пополняла ряды духовного сословия. Это действительно могло привнести в западное христианство ту долю ресентимента, о которой пишет Ницше, то есть специфической переоценки ценностей с целью отвоевать у аристократии завоевателей сферу институционализированной религии, а затем и подчинить эту аристократию в моральной области. Но то, что начиналось как переоценка ценностей и ресентимент, в итоге зашло гораздо дальше и стало одной из основ формирования классового подхода – идеологическим основанием для свержения Старого порядка.
Акцентирование нами внимания на отношениях внутри аристократии вовсе не означает, что в среде иных классов отсутствуют отношения, порождающие ресентимент как следствие фактического неравенства людей, обладающих примерно равным статусом или претензиями, позволяющими претендовать на таковой. (В средневековых обществах, например, много всяких статусов, в любом сословии обнаруживается своя иерархия.) Более того, как мы покажем ниже, предпосылки ресентимента древней всякой аристократии. Высшие классы пользуются нашим особым вниманием по двум причинам: 1) в силу существующей в долгие периоды, закрепленной законом (хотя и не везде) нисходящей социальной мобильности конкретно для класса аристократов (которая ведет именно к понижению социального статуса в отличие от тех же крестьян, у которых не всегда мог быть майорат); 2) в силу того, что аристократы и буржуа к тому времени, когда проблема ресентимента приобретает актуальность, являются классами наиболее образованными, задающими интеллектуальную моду. Поэтому именно они способны дать ресентименту если не идеологическое, то культурное оформление. Иными словами, если мы исходим из того, что аристократия долгое время является ведущей культурной силой, которой прочие классы (в первую очередь буржуазия) могут лишь подражать, то будет последовательным признать, что и в области ресентимента этот класс является законодателем моды.
Поскольку мы упомянули моду, то сразу напрашивается ассоциация с местом, которое является ее источником в сословном обществе. Это так называемый «свет» и, особенно, «двор». Они же выступают и в качестве одного из главных мест, где расцветает ресентимент. «Прочитайте, что писали историки всех времен о дворах государей, – писал по этому поводу Монтескье, – вспомните, что говорят во всех странах о гнусной природе придворных; это не умозрение, а плоды печального опыта. Честолюбивая праздность, низкое высокомерие, желание обогащаться без труда, отвращение к правде, лесть, измена, вероломство, забвение всех своих обязанностей, презрение к долгу гражданина, страх перед добродетелью государя, надежда на его пороки и, что хуже всего, вечное издевательство над добродетелью – вот, полагаю я, черты характера большинства придворных, отмечавшиеся – всюду и во все времена. Но трудно допустить, чтобы низшие были честны там, где большинство высших лиц в государстве люди бесчестные, чтобы одни были обманщиками, а другие довольствовались ролью обманываемых простаков»[76]. Двор и свет как места пребывания аристократии заслуживают особого внимания, поскольку именно там во всей полноте разворачиваются взаимодействия, пронизанные неравенством, попиранием слабого сильным, менее знатного более знатным. Особую роль во всех этих взаимодействиях играет зависть – чувство, в классической концепции ресентимента приписываемое рабам, плебеям и прочим «подлым» и неблагородным. Однако именно в среде «праздного класса», как не без основания отмечал Торстейн Веблен, играет огромную роль «завистническое сопоставление» с другими членами этого же класса[77]. Состязаются ли аристократы (или их исторические предшественники) в воинской доблести или меряются богатством, проигрыш, пусть даже и символический, влечет за собой часто потерю уважения и самоуважения. Чего бы они ни достигли в этом отношении, они никогда не будут вполне удовлетворены «результатом своего завистнического сопоставления»[78] И в целом «образ мысли, характеризующий жизнь праздного класса, постоянно вращается вокруг личного господства и завистнического представления о чести, достоинстве, заслугах, статусе и обо всем, что с ним связано»[79].
При этом данные взаимодействия порождают ресентиментные переживания не в последнюю очередь в силу того, что они облекаются в утонченные культурные формы, призванные замаскировать и смягчить реальное неравенство формальным равенством благородных. Показательно, что чем ближе к Новому времени, тем больше нравы света и двора описываются в категориях лжи и лицемерия, гнусного интриганства и вопиющей неестественности. Так, например, согласно Лабрюйеру, если познакомиться с королевским двором поближе, «он теряет все свое очарование, как картина, когда к ней подходишь слишком близко» («О дворе», 6). «Двор похож на мраморное здание: он состоит из людей отнюдь не мягких, но отлично отшлифованных» («О дворе», 10). «Двор – царство страшных пороков и холодной учтивости, он привлекает и пугает, заставляет вступать в опасную игру “жадных, неистовых в желаниях и тщеславных царедворцев”» («О дворе», 22). Показательно, что в описании этого автора большое внимание уделено «моральной деградации высших кругов общества во главе с наиболее родовитой знатью. Лишенные своих старых феодальных привилегий, прикованные к подножию трона, французские гранды стремятся вознаградить себя ложным величием за утерю реального политического главенства в государстве. Спесь извращает психологию не только вельмож, но и аристократов, не только дворянства крови, но и привилегированной части буржуазии – дворянства мантии. Для поддержания престижа своего имени французский аристократ рискует состоянием; он готов для этой же цели пойти на любую подлость. При дворе идет страшная борьба за должности, но “человек, получивший видную должность, перестает руководствоваться разумом и здравым смыслом… сообразуясь отныне лишь со своим местом и саном” (“О дворе”, 51). Двор развивает низкие инстинкты, ибо наиболее тщеславные люди чувствуют себя ничтожными перед волей самодержца. “Люди согласны быть рабами в одном месте, чтобы чувствовать себя господами в другом” (“О дворе”, 12)»[80].
Проблематика двора и света с их лицемерием людей, обреченных терпеть унижения и часто изображать не то, что им думается, «отказываться от своего величия для заимствованного»[81], изощренно мстить врагам и т. д. (причем не пытаясь сломать этот порядок в целом), открывает нам существенную сторону ресентимента как умонастроения, характерного для тех представителей высших классов, которые считают имеющийся порядок в целом справедливым и недовольны лишь своим местом в нем. Поэтому путь к выходу за пределы ресентимента описывается уже в категориях идеологий, порожденных ресентиментом только отчасти. (В связи со сказанным следует, в частности, отметить просветительскую реакцию на холод и жесткость лицемерного света: ею становятся призывы к естественности и простоте, которые вскоре станут компонентами демократических идеологий.) Но пока этого не произошло, например во Франции при Старом порядке, двор становится местом, в котором, как и в прочем обществе, происходят сближение и культурное смешение между высшей аристократией и буржуазной по происхождению просвещенной публикой, которая нередко искала покровительства в высших сферах. «Просветители со своей стороны не имели ничего против такого покровительства. Они с радостью и гордостью писали о том, что историки нашего времени называют “слиянием элит”: то есть о сближении придворной аристократии с литераторами. Так, известный романист, историк и моралист Шарль П. Дюкло в “Размышлениях о нравах этого века” (1751) утверждал, что в результате проникновения литераторов в придворное общество выиграли обе стороны: светские люди получили образование и новые развлечения, а литераторы – светские манеры и положение в обществе. Похожего мнения придерживался и Вольтер, подтверждением чему может служить его статья “Литераторы” (Gens de lettres) для “Энциклопедии” Дидро и Д’Аламбера. По словам Вольтера, “дух века сделал их по большей части пригодными как для научных занятий, так и для света; этим они намного превзошли литераторов прошлых веков. До Бальзака и Вуатюра их не пускали в общество; с тех пор они стали его необходимой частью”»[82].
В связи со сказанным следует отдельно указать на то, что образование (в широком смысле – как приобщение к «высокой культуре») играет огромную, если не ключевую роль в формировании ресентиментных настроений в классово и сословно разделенных обществах. Высшее образование до известной степени сближает получающих его с представителями аристократии. Это происходит уже потому, что, как заметил в свое время Т. Веблен, оно восходит к жречеству как посреднику между господами и плебеями. Образование, таким образом, является побочным продуктом деятельности праздного класса жрецов, а высшее образование «оставалось в известном смысле побочным занятием духовенства»[83], «подставного праздного класса, находящегося на службе у “потусторонней аристократии“»[84]. Показательны рассуждения американского социолога о сходстве академических и ученых ритуалов с ритуалами духовенства и вообще высших классов: «…нормы академической почтенности… устанавливаются высшими социальными рангами и классами; а к тем, в свою очередь, эти нормы переходят по законному праву фамильного наследования»[85]. В особенности коррелируют с аристократизмом занятия гуманитарными науками, поскольку они «вполне приспособлены для формирования характера студента в соответствии с традиционной эгоцентричной системой потребления, системой созерцания и наслаждения истиной, красотой и добром, согласно общепринятому образцу приличия и совершенства, яркой чертой которой является праздность – otium cum dignitae (досуг с достоинством, достойный досуг)»[86]. Тем не менее мы должны еще раз подчеркнуть, что сближение части выходцев из третьего сословия в образовании и воспитании с аристократами с давних времен является в той же мере предпосылкой их действительного уравнивания (социальный лифт), как и ресентимента – тогда, когда оно не ведет к фактическому равенству возможностей[87]. Догадываться об этом позволяет, к примеру, описываемый Ниной Ревякиной случай ренессансного гуманиста Витторино да Фельтре[88], который учил как богатых, так и бедных благородных, равно как и неблагородных, побуждая их достичь благородства, понимаемого им как добродетель. Неблагородных он характерно утешал и подбадривал: «Все вступают в жизнь одним и тем же путем, поскольку у всех одно и то же начало; но нет никакой родовитости у тех, кому предстоит родиться, она у рожденных воспринимается не от предков, а идет от чистой души; поэтому пусть они ее лелеют и пусть действуют мужественно, у того, кто желает благородства, оно будет»[89]. При этом Ревякина вскользь замечает, что среди благородных учеников были правители, кондотьеры, церковные деятели, юристы, литераторы, придворные, но «среди них не было педагогов в университетах, учителей в городских школах, воспитателей в семьях – эти функции выполняли другие ученики мантуанского наставника»[90]. Трудно сказать, какие чувства испытывали неблагородные ученики от утешений учителя (который все-таки отдавал некоторое предпочтение социально близким ему благородным, особенно из бедных семей). Но, вероятно, возможность подъема по социальной лестнице, даваемая таким обучением, до некоторой степени омрачалась пониманием социальной дистанции между благородными и неблагородными. Все-таки неблагородные ученики могли видеть, что одни становятся правителями и придворными, а потолок других – преподавание в университете. Позже, уже в процессе получения образования, они сталкивались с ситуацией, когда потомок лорда получал искомую степень по прошествии двух лет, не сдавая экзамена, тогда как всякий другой добивался ее семь лет. И это помимо того, что, по словам Уильяма Мейкписа Теккерея, «несчастливцы, у которых нет кисточек на шапках, называются “стипендиатами”, а в Оксфорде – “служителями” (весьма красивое и благородное звание). Различие делается в одежде, ибо они бедны; по этой причине они носят значок бедности и им не дозволяется обедать вместе с их товарищами-студентами»[91]. В то же время совместное обучение создавало ситуацию известного сближения неравных по происхождению слоев, по крайней мере в отношении образования, не только побуждавшую низших возвыситься, но и становящуюся предпосылкой для ресентиментных переживаний и порожденных ими идеологем. К последним можно отнести и саму идейную основу совместного гуманистического воспитания и образования: представление о благородстве как добродетели, то есть как о достижимом индивидуальными усилиями, а не врожденном качестве. (Пройдет время, и из него вырастут широко распространенные в среде буржуазии и обедневшей аристократии меритократические представления, которые внесут свой вклад в крушение Старого порядка.) В более же приземленном смысле получение представителями низших слоев хорошего образования и воспитания давало им повод считать себя явно более достойными лучшей участи, нежели пользующиеся различными привилегиями отпрыски знатных родов – особенно если последние носили на себе явную печать физической, интеллектуальной и нравственной деградации. Так, «У. Теккерей, говоря о некоем баронете, возмущался при одной только мысли о том, что человек, с трудом умеющий читать, человек грубый, которому доступны только “животные чувства”, восседает среди высших сановников Англии (речь шла о членстве в палате лордов). <…> Ядовитый Свифт в “Путешествиях Гулливера” так описывает воспитание знати: “Молодые ее представители с самого детства воспитываются в праздности и роскоши и, как только им позволяет возраст, сжигают свои силы в обществе распутных женщин, от которых заражаются дурными болезнями; промотав, таким образом, почти все свое состояние, они женятся ради денег на женщинах низкого происхождения, не отличающихся ни красотой, ни здоровьем, которых они ненавидят и презирают… слабое, болезненное тело, худоба и землистый цвет лица служат верными признаками благородной крови; здоровое и крепкое сложение считается даже бесчестием для человека знатного, ибо при виде такого здоровяка все тотчас заключают, что его настоящим отцом был конюх или кучер. Недостатки физические находятся в полном соответствии с недостатками умственными и нравственными, так что люди эти представляют собой смесь хандры, тупоумия, невежества, самодурства, чувственности и спеси. И вот без согласия этого блестящего класса не может быть издан, отменен или изменен ни один закон; эти же люди безапелляционно решают все наши имущественные отношения”»[92].
Исходя из сказанного, можно заключить, что ресентимент скорее спускается вниз по социальной лестнице, чем наоборот. Здесь стоит заметить, что проникновению ресентиментных настроений в социальные низы способствовал уже сам по себе майорат. Младшие дети дворян становились священниками, военными, монахами, торговцами. Некоторые уезжали за океан, открывали и завоевывали новые страны. В своей книге о формировании «преследующего общества» в Европе XII века Роберт Мур обращает внимание на прослойку младших сыновей рыцарей, часто незаконнорожденных, оказавшихся жертвами ужесточившихся законов о наследовании. Вследствие шаткости своего положения эти люди постоянно конкурировали за благосклонность покровителей, которая давала им должности, известность и богатство, боясь потерять ее, а вместе с ней и все, что у них было[93]. Ради укрепления собственного положения они были вынуждены проявлять повышенное рвение в формировании государственно-бюрократических структур в Западной Европе и за ее пределами (много младших сыновей, покинувших родину, было, в частности, среди жителей английских колоний в Северной Америке). Поступив на государственную службу или выбрав церковную карьеру, обделенные из аристократического класса отличались рвением и в преследовании социальных групп, признанных опасными для общества (еретиков, евреев, прокаженных и др.). Закономерно предположить, что их деятельность порождала у преследуемых чувства ненависти и бессилия, которые отчасти испытывали они сами, причем эти ненависть и бессилие должны были обретать гораздо более выраженный ресентиментный характер ввиду значительно меньших возможностей изменить свое положение.
Позволив себе небольшое отступление от проблематики собственно социального генезиса ресентимента, отметим также, что в ряде случаев ресентимент выступает как комплекс чувств и установок, которые низшие классы перенимают от высших как свидетельство приобщения к культуре и, так сказать, проблемам высших классов. Это относится отнюдь не только к моде или бытовым привычкам. В основе национализма, например, лежит отождествление человека из социальных низов с высшими классами своей страны. Национальные элиты заинтересованы в том, чтобы не-элиты воспринимали силу богатых и влиятельных как свою собственную. В такой ситуации низы как бы приобщаются к силе верхов. Но точно так же «сверху вниз» транслируются ощущение слабости и чувство негодования. С этим мы сталкиваемся, в частности, когда при проведении реформ одна страна пытается подражать другим, служащим ей эталоном, но терпит неудачу. Вследствие этого, как замечают Эдуард Понарин и Борис Соколов, опираясь на концепцию Лии Гринфельд[94], у населения этой страны «развивается разочарование, перерастающее в агрессивную неприязнь к государству, бывшему ранее образцом. Особую роль в этом процессе играют элиты (в первую очередь интеллектуальная элита), которые сначала создают некий идеал, на который призывают равняться (Англия для французских интеллектуалов первой половины XVIII века, Франция для немцев времен наполеоновских войн и т. д.), а затем, по мере разочарования, переходят в оппозицию к своим недавним кумирам»[95]. Здесь имеет значение и то, что неизбежная при таких обстоятельствах стратегия имитации сама по себе довольно унизительна, особенно если провозглашаются «конец истории» и отсутствие альтернативы. В результате и для обществ в целом успехи имитации начинают выглядеть свидетельствами не столько социальных достижений, сколько социальной неполноценности[96] – и порождают характерный комплекс чувств и соответствующих им политических дискурсов.
В отличие от ситуации великих революций, бенефициарами ресентимента тут однозначно оказываются правящие элиты: солидаризация с ними низов в общем ощущении слабости становится их (элит) силой. В этом смысле достаточно типичен пример современной России, где после крушения советского строя проводились реформы по западному образцу, не увенчавшиеся однозначным успехом или совсем не достигшие поставленных целей. Принципиальным здесь было, собственно, не достижение целей вестернизации, а то, что российские элиты, несмотря на все усилия и уступки «западным партнерам», так и не стали для них «своими» – при формальном равноправии. Наложившись на объективные экономические и политические противоречия между Россией и Западом, состояние отторжения привело к тому, что на уровне риторики постепенно возобладали антизападничество, идеи «особого пути», в свою очередь пробудившие потребность в теоретическом объяснении-оправдании невозможности «догнать Запад» («эффект колеи», неблагоприятный климат, отсутствие пригодных для эксплуатации колоний и т. д.). Именно в этом кроется одна из причин популярности критики концепций модернизации, что отвечает настроениям правящей элиты. На уровне масс соответствующие чувства находят выражение в антиамериканизме, осуждении разлагающейся лицемерной и двуличной Европы, приписывании недифференцированному Западу постоянных злых умыслов по отношению к России. При всем том применительно к современной России трудно говорить о полной неспособности «отомстить» обидчику (что лежит в основе ресентимента). Напротив, сжечь Запад, а заодно и весь мир в ядерном огне она как раз в состоянии. Не следует упускать из виду то обстоятельство, что, в отличие от Восточной Европы, у нас, в сущности, и не пытались всерьез воспроизвести западный путь. Как утверждает Глеб Павловский, «РФ не подражала западному “победителю” – имитирование в Москве изначально применяли как технику. РФ декларирует готовность имитировать западные институты. Но сама российская аппаратура имитации не являлась институтами демократии и не собиралась ими быть»[97]. И то и другое снижает не только градус ресентимента, но и его творческий потенциал. Не потому ли элиты современной России не могут выдвинуть в качестве альтернативы какой-либо мессианский мироустроительный проект? В подобных условиях наиболее комфортной стратегией до недавних пор представали ожидание мести, надежда на крушение зловредного Запада. Характерно, что крушение это (а значит, и месть) отодвигалось в неопределенное будущее. Однако признаки его неотвратимости обнаруживали постоянно – и в нарастающей порче западных нравов, и в западной демографии, и в социальных проблемах Запада и сопутствующих им политических потрясениях вроде «желтых жилетов», Brexit, избрания Трампа, движения BLM, штурма Капитолия, не говоря уже о перипетиях украинского кризиса. Там, где чувство унижения и желание отомстить не достигают достаточного накала, не возникало и сильного творческого порыва с целью изменить мир. Оставалась лишь злорадная надежда когда-нибудь увидеть «проплывающий труп врага», после чего его наследие достанется тебе естественным образом.