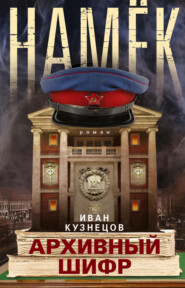По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Глубокий поиск. Книга 3. Долг
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Зачем ты отпустила?! – запальчиво воскликнула Женя. – Почему ты решила одна, без нас?
Женька – неисправимая коллективистка.
– Надо было ещё расспросить! Он даже не намекнул, что тебе грозит! – сокрушалась подружка.
– Жень, разве ты пошла бы против его воли? – У меня, как утром, сжало горло, но я проглотила комок. – Мы спросили: нужно ему наше общество?!
Совсем некстати вдруг заметила, как резко и жёстко звучит мой голос среди мягких и певучих голосов девчонок. Надо же! Уж больше двух недель говорю по-русски, а всё не перестроюсь.
Подружка сникла и неуверенно возразила:
– Но мы не выяснили, чем ему помочь…
– Он не попросил нашей помощи, – сухо бросила Лида. – Спасибо, Тась!
Женя примирительно обняла меня и сказала:
– Тасечка, у тебя такой смешной акцент!
В её шутливом тоне было столько грусти!
Нам очень хотелось пообщаться всласть, спрашивать и рассказывать наперебой. Но – не теперь! Завтра. Завтра вечером соберёмся снова, придут ещё и Катя, и Сима, и мы будем взахлёб разговаривать до утра, и смеяться, и плакать – то от радости, то от грусти. Не сейчас.
Девчонки молча разошлись в подавленном настроении: вот теперь-то мы по-настоящему осиротели, а все иллюзии – у кого какие были – развеялись прахом.
Ещё до того, как мне предстояло покинуть стены санатория и отправиться на представление новому начальству, девчонки подробно рассказали, как переменились вся структура бывшей группы товарища Бродова и система подчинения. Лаборатория пока осталась и сохранила почти прежний состав, но теперь располагается в другом месте: занимает пол-этажа в большом современном здании, там просторно и светло.
Уютного особняка на Гоголевском было жаль, но я привыкла к переменам места. В конце концов, событие частное, внутриведомственное. А ведь произошли перемены в масштабах всей страны!
Полной неожиданностью для меня стало, что теперь у Советского Союза новый гимн. Очень хороший, сильный, каждое слово в нём – по делу! Хотя, конечно же, я родилась с Интернационалом. С ним были связаны и мирная жизнь, когда он звал развиваться, строить, спешить в будущее, и тяжёлые дни войны, когда и решительный бой, и смертный стали внезапно из легендарного революционного прошлого суровым настоящим.
Не могла представить, что стану так болезненно переживать самую пустячную из перемен – в знаках различия.
В кабинет Кирилла Сергеевича, нового начальника, я так и вошла в сопровождении девчонок. У него находились Михаил Маркович, с которым мы тепло обнялись, и начальник технической службы – новый для меня человек. Кириллу Сергеевичу не было и тридцати. Он стремительно поднялся мне навстречу. Круглолицый, симпатичный, серьёзный…
Ох и зацепили мой взгляд погоны с полосками и звёздочками! На Кирилле Сергеевиче и на начальнике техслужбы сверкали чистенькие, новенькие звёздочки в разном количестве, разных размеров, пока не вполне понятного мне достоинства. Сердце болезненно сжалось.
В памяти высветился яркий образ. Ромбы в петлицах расстёгнутого ворота… В них всегда первым упирался мой взгляд при встрече с руководителем: я ж росточком не вышла – теперь вот только побольше вытянулась… Рукава суконной рубахи закатаны. У Николая Ивановича лицо и волосы влажные после умывания. Вокруг глаз – тени, но сами глаза полны живого интереса: «Девчонки, что сегодня ночью происходило… в атмосфере?»
Ещё образ из памяти. На ребятах, принарядившихся к Новому году, блестят сапоги, блестят пуговицы на наглаженной форме, и даже кубики в петлицах сверкают в свете керосиновых ламп. Маслом, что ли, их смазали?!
Мелочь в самом деле – знаки различий на форме! Но мне показалось, что, приехав из чужих краёв туда, откуда начала путь всего два года назад, я так и не вернулась домой…
Резало слух внедрявшееся в обиход слово «офицеры» вместо наших родных «командиров». Навидалась я офицеров, да их не так звали!
Однако новый начальник не виноват ни в безвременной смерти прежнего, ни тем более в реформе. Нужно поддержать его и начать совместную работу.
Кирилл Сергеевич старательно делал уверенный вид, но и я, и девчонки легко считывали его подлинное состояние. Как ни забавно, но факт: он сильно оробел передо мной – пятнадцатилетней девчонкой! Он отнёсся ко мне с таким трепетным уважением, будто я вернулась с Луны. Если я хотела сработаться с этим молодым начальником, следовало срочно и незаметно для него и окружающих вывести его из глубокого смущения, вернуть в начальственное кресло. Чем и занялись – я и девчонки – не сговариваясь. Главной традицией Лаборатории были добрые отношения между всеми сотрудниками, включая руководство. Эту традицию надо обязательно сохранить и научить новое начальство её поддерживать!
Кирилл Сергеевич вынул из сейфа мои награды с полагающимися к ним «корочками». Дал подержать в руках, налюбоваться. Было очевидно, что посторонним их нельзя пока видеть, так как не придумано еще внятного объяснения происхождению моих наград. Поэтому решили: пусть от греха подальше полежат в сейфе, пока у меня не появилось постоянного жилья. Вскоре жильё появилось, возобновилась моя служба, да так бурно, что про награды все забыли… Впоследствии стало совсем нельзя отдавать мне их. Так и лежат, наверное, по сию пору в каком-нибудь секретном сейфе…
До конца недели мне дали отпуск.
Мы с Лидой съездили на Ваганьково.
Позвали ещё Катю, но та отказалась идти с нами на кладбище:
– Могилка без креста. У меня прямо сердце разрывается, как вижу! Простому человеку можно крест поставить или хоть маленький нарисовать на табличке. А ему не положено. А ведь крещёный же человек!
Катя в последнее время всё больше становилась верующей. Свободное время она проводила в церковной общине и без остатка посвящала благотворительности: помогала семьям, потерявшим кормильцев, собирала какие-то вещи, продукты для нуждающихся, занималась с детьми. Из-за этого она до сих пор не окончила мединститут: всё времени не хватало подготовиться к экзаменам, чтобы перевестись наконец на последний курс.
У могилы я держалась молодцом: протёрла новенькую плиту от песка, который набило на неё весенними дождями, положила цветы. Странно было сознавать, что процесс тления ещё, наверное, почти не тронул тела, покоившегося с поздней осени в промёрзшей земле.
Прочитав надпись, я спросила Лиду:
– Когда его повысили в звании?
Лида рассказала. Сообщать такую новость мне туда, разумеется, не полагалось, хотя девчонкам тогда очень хотелось похвалиться.
– Посчитай!
Лида легко провела пальцами по датам, выбитым на плите: 1890–1943. Я никогда не задумывалась над этим, хотя приблизительно представляла. Мы, девчонки-школьницы, считали его пожилым человеком, почти стариком. А ему было чуточку за пятьдесят!
Я не плакала потому, что не хотела при Лиде, и потому, что нельзя делать этого на кладбище у свежей ещё могилы…
От девчонок я знала, что на похоронах не обошлось без загадочного, хотя и небольшого события.
Присутствовал мужчина в штатском, которого никто из наших не знал. Девчонки легко считали в нём человека служивого, в высоком звании, допущенного к особой важности секретам – и всё. Экран. Непрофессиональный, но вполне убедительный. Человек этот держался особняком, хотя высокое начальство относилось к нему явно с большим уважением. Он не произносил речей и не слушал других, а оставался погружённым в себя, стоял с прямой по-военному спиной и, что называется, «перевёрнутым» лицом. В этом было не только горе, а растерянность от осознания внезапной беды.
Зазвучали винтовочные залпы, пришла пора бросать землю на гроб. Этот незнакомый человек подошёл в числе первых, преклонил колено у могилы, чтобы взять горсть, и на несколько мгновений застыл.
Женька, которая оказалась ближе всех, была уверена, что услышала очень тихо произнесённые слова. Другие ничего не слышали, но Лида считала слово в слово то же, что Женьке показалось произнесённым вслух:
– Николай Иванович, прости, дорогой! Сам себе никогда не прощу. Хоть ты меня прости!
Выпрямившись и кинув горсть земли, он ушёл, не оглядываясь.
Кто это был и за что просил прощения, так и осталось загадкой…
– Знаешь, Тась, что Полина Ивановна рассказала?
Лида вдруг оживилась и улыбнулась озорно, хоть и с оттенком грусти. Опять же от девчонок мне было известно, что на поминки приезжала из Касимова родная старшая сестра товарища Бродова. На похороны она не успела, удалось только на девять дней. И то хорошо: брата из колхоза вовсе не отпустили. Полина Ивановна оказалась женщиной простой, но сдержанной и замкнутой; поначалу сидела как заледенелая. Однако девчонки всё же её растопили немножко и разговорили, чтобы не держала горя в себе. Она порассказывала им кое-чего. Про детство, про умиравших в младенчестве сестёр и братьев и своих уже детей, из которых выжила одна только дочь. Про то, как Николай Иванович регулярно и безотказно помогал деньгами её собственной семье.
– Про патефон, – продолжила Лида. – Помнишь спор-то наш с тобой про патефон и пластинки?
Я прикусила губу.
– Лидок, ты хочешь, чтобы я всё-таки разревелась? Нельзя здесь, серьёзно!.. Помню, как не помнить!