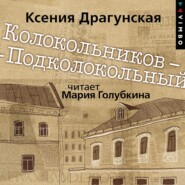По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Туда нельзя. Четыре истории с эпилогом и приложением
Серия
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Придешь утром, а от меня одна одежа осталась. – Царевнину стало жалко себя.
– Это с какого переляку они тебя, дурака, утащат?
– На органы.
– Тю! – засмеялся Белогнутов. – На кой им твои органы, там, поди, от органов труха одна.
Царевнину стало обидно за свои органы и еще жальче себя. Чтобы не заплакать, он спросил:
– А как это озеро называется?
– По-всякому. Тут столько разных народов побывало, каждый по-своему звал… А еще береговая линия сильно изрезана, затонов, бухт много, каждому затону отдельное имя дадено. Так-то! А теперь спать. И руки чтоб поверх одеяла, – подмигнул.
«Цирк какой-то, – подумал Царевнин. – Спектакль».
Этот Белогнутов явно не такой валенок. А старается показаться валенком, потому что считает валенком его, Царевнина, ведь Царевнин тоже старается показаться простаком и алкашом из подворотни, для безопасности – чтобы никого не раздражать своими никчемными в этом месте знаниями и «московством». Царевнин знал, что чистый московский выговор и грамотность могут быть опасны для жизни.
Царевнин обрадовался – уже может раздумывать. Эта радость успокоила, она была сильнее тревоги, что кончились пилюли, которые доктор дал в дорогу.
Он легко заснул в тепле и спал хорошо, снилась чушь, но нестрашная: два милиционера, одетые, как раньше, в голубых фуражках, ныряют в озере, ухая и фыркая, а на берегу, на чистой мягкой траве, стоят дети и смеются, и большие меховые собаки тоже улыбаются, машут хвостами.
Утром умывался в сенях ледяной водой – понравилось. Пришел Белогнутов проводить на общую кухню. Царевнин пожал ему руку и сказал:
– Андрей Михайлович, я музыкант из Москвы, со мной на гастролях во Франции запой приключился, подвел я очень, и друзья меня сюда определили, в назидание.
– Починим! – заверил Белогнутов. – У нас тут и доктор имеется. Акушер, правда, но парень во такой! Гриша-акушер. А я из Питера, преподаватель истории и географии. На пенсии, конечно.
– Вы мне скажите, пожалуйста, это мы все где?
– В Огороде, – серьезно сказал педагог. – Это такой Огород.
«Где я?
Ризя! Ты куда меня засунул, Саша-Ума-Катя-Ася? Что это за богадельня? Какой-то, Боря-Лида-Яша-Дима-мягкий знак, санаторий-профилакторий общего режима! Песочница для мальчиков пятьдесят плюс.
По ходу, я тут самый молодой. Детская площадка “Ветеран”. Колхоз “Старый конь”. Турбаза “Лузер”. Дачный поселок “Неудачник”. Огородная артель. Мужской бордель для одиноких баб Нечерноземья. Кстати, это вообще какая область? Никто не знает. То ли Тверская, то ли Смоленская, а то и вовсе Псковская. По номерам машин не поймешь, то одно то другое. Глухой угол.
Эта баба, что собеседование проводила, она кто? Врач? Психолог? Психологов ненавижу! Сестра-хозяйка? С ней как говорить вообще? Ты ей что про меня наплел? Она приезжает, привозит харчи и лекарства, если кому надо. Тут кухня-столовая есть в отдельной избе с большой террасой. Готовим по очереди, когда на печке, когда на плитке, и две микроволновки есть. Еще баня и “салон,” или “штабной вагон,” – пустая изба с большой плазмой. Правда, похоже на детсадовскую дачу, только на стене террасы объявление: “Просьба найденные в лесу боеприпасы на территорию не приносить”. Самый запад, Ризя. Эти края всегда под раздачу попадали. Последние лет пятьсот. В болотах до сих пор самолеты лежат, ржавеют. Мины – эти просто как грибы. Интересные места – для тех, кто понимает. Ризя, вы меня надолго сюда определили? Нет, я не протестую, я просто спрашиваю. Вообще, жить можно. Избушки наши разбросаны по пригоркам, рядом озеро большое, такой загогулиной, как звать, никто точно не знает, тут один чокнутый целыми днями на озере зависает, не рыбачит даже, а так… Дружит. Постояльцев сейчас человек десять, я пятерых уже знаю, вроде нормальные, и совсем не все алкаши. Работать не заставляют, только самим себя обслуживать, готовить, стирать, порядок поддерживать, ну и огород. По вечерам кино и настольные игры. Я тебе письмо пишу от руки, потом сфотографирую и при случае, как поднимусь в поселок, на станцию, тебе отправлю на мыло. Там интернет хороший, четыре джи прямо со свистом летает, и вообще – цивилизация, магазы, почта, сбербанк, аптека. Тут красиво и тихо. Чтобы пересидеть, очухаться – самое то. Вот я и пересижу, а там видно будет. Ты платил за меня много? Я верну. А передержка эта? За деньги? Верну всё! Точно, передержка, только вместо собак – мужики. Прости, что так подвел на гастролях. Прости, друг. Наталье передай как-то аккуратно, что я к ней не вернусь и искать меня не надо. Ну давай. На днях отправлю это письмо. Ризя. Ты мне друг, скажи честно. Просрал я свою жизнь? В хлам просрал?
Или еще не совсем?»
Царевнин сфотографировал письмо.
Кончался март, пахло водой, оттаивающей землей, костром, слышалось, что где-то работает пилорама.
Постучавшись, заглянул Белогнутов, протянул два крепких яблока:
– Свои яблочки, наши. Храним грамотно, секрет старинный знаем… Ну что, пойдешь в штабную? Наши «мафию» затевают…
?
Довольно скоро Царевнин прекрасно освоился, или, как говорят про псов и котов, «прижился», и жалел только, что не может репетировать, упражняться, инструмента нет. Беспокоить Ризю, гонять в такую даль – надо же и совесть иметь когда-то, и так попил уже Ризиной кровушки… Хорошо Июнькину, «ипанату кальция», как называет его мужлан Буйвидас, – уходит в луга, в поля и танцует под свою внутреннюю музыку хоть до упаду.
Июнькин обожал танцевать, с детства прилипал к телевизору, когда передавали балет или народные танцы, ходил в хореографические кружки, а папа его, милицейское начальство в маленьком южном городке, считал, что мужик без погон – не мужик. Папа устроил сына служить в армию не куда попало, а во внутренние войска, зэков охранять. На этом почетном поприще с Июнькиным что-то произошло. «Из армии вернулся головушкой прискорбный. Не то побили, не то секретность какая, – рассказал про него Белогнутов. – А потом еще четыре женитьбы перенес. От этого тоже с головой лучше не становится…» После армии, ко всему прочему, Июнькин утратил способность к деторождению, хоть и сохранил пригодность для супружеской жизни. Это удачное сочетание, а также немногословная кротость привлекали к нему, мелкому, как подросток, крупных, крикливых и властных теть постарше.
Теперь Июнькин привязался к озеру, смотрел на него, сидел на берегу и что-то ему рассказывал, смеялся и купался с апреля по ноябрь, не простужаясь. А то уходил в луга и танцевал под свой внутренний тамтам.
Парники большие, даже мужлан Буйвидас, самый высокий в Огороде (подобранный хозяйкой на невольничьем рынке возле Мытищ), спокойно стоял во весь рост. Круглый год свежие огурцы, помидоры, перцы – поди плохо! Следили за чистотой и порядком на территории, за печками, дровами и колодцами. Жили мирно, только толстяк Белогнутов и пожилой ловелас Маркович не здоровались и не разговаривали друг с другом. Знойный, с седыми кудрями в синеву, Маркович измерял годы в женах. Никто почему-то не говорил ему, что выражение «три жены тому назад» придумал Воннегут и чтобы он не больно-то важничал.
А если и случались ссоры-споры среди постояльцев Огорода, то исключительно на микологические и ихтиологические темы: какая рыба как называется, какие грибы съедобны, а какие нет.
Ближе к лету в окрестностях появлялись копатели и монетчики. Копатели искали в лесу боеприпасы и «поднимали» останки бойцов. Были официальные поисковые отряды и просто любители старого оружия. Монетчики шерстили окрестности барских дач, искали старинные монеты. Но копателям со стариной везло больше – говорили, что недавно был найден сборник Гёте 1914 года издания и немецкий солдатский медальон 1941-го. Наверное, какой-то отец благословил своего сына этим сборником с готическим шрифтом. В свободное от огорода и хозяйства время постояльцы присоединялись к копателям или монетчикам, рыбачили, мастерили или предавались своим увлечениям (опальный журналист Мухов обожал реанимировать старые радиоприемники и магнитофоны, а его сосед, контуженый спецназовец Генварёв, любил готовить). Два раза в неделю ходили в баню. Иногда помаленьку выпивали, кому можно. За выпивкой или у костра беседовали, рассказывали, кто как ранился, резался или обжигался, кто откуда падал и как тонул, у кого какой чудила в армии был сержант, у кого какая сука теща… Кто как убегал на машине от гаишников, у кого какая машина в каком году как ломалась… Рассказывали анекдоты и небылицы. Когда анекдоты и небылицы кончались, просто хвастались, врали или жаловались – про женщин. И всегда все разговоры – после бани, у ночного костра на берегу, на привале в лесу или разбирая старый автомобиль – все разговоры приводили к женщине, устроившей этот запоздалый мальчишеский рай с карасями, щенятами, кострами и поисками кладов. Кто она? Врач? Изучает их, что ли? Предприниматель? Скучающая богачка? Откуда у нее семь изб, плюс штабная, плюс кухня, плюс баня? Это же какое богатство! А красный «Рэнглер-Рубикон»? Неизвестно. Никто даже толком не знал, как ее зовут. Спецназовец гнал телегу, что она потомок тех испанских детей, которых доброе советское правительство вывезло от фашистов, и что зовут ее по-испански Амор Каритас. Царевнин удивился, почему Белогнутов и журналист Мухов (эти-то двое наверняка знают) не объяснят остальным, что Амор Каритас – благотворительная организация или вообще экспонат в музее, образ и человека так звать не могут.
И сам тоже не стал объяснять.
Всегда спокойная, приветливая, она всех называла «хорошие мои», неважно, обращалась ли ко всем или к кому-то одному. Говорила тихо, поэтому ее и старались услышать. Летом в льняной, расшитой васильками тюбетейке, осенью и зимой – в чем-то вроде хевсурской шапочки, в валенках или резиновых сапожках с хохломскими узорами, так, дачница за рулем красного «рэнглера-рубикона». Никто даже не знал, сколько ей лет. Решили – от сорока до шестидесяти. Бабы сейчас и не такое умеют. У них не поймешь. Примочки там всякие. А она вообще бойкая такая… Царевнину она казалась ровесницей, за сорок, да.
Рассказывали:
что она бросила в доме престарелых умирающего старика-отца;
что она отказала жениху прямо в загсе и он повесился;
что с ней не общается, за что-то обидевшись, единственный сын;
и вот она якобы хочет искупить вину всех баб перед всеми мужиками и устроила этот Огород.
Царевнин понимал, что это фольклор, устное народное творчество.
Следующим сегментом «огородного» фольклора были истории про первых постояльцев. Тут возникали разночтения: одни считали, что первым постояльцем был беглый монах Иероним Отродьев, другие – что немецкий дальнобойщик Фитцнер. «Иероним Отродьев – это уж слишком», – сразу решил Царевнин. Но и про Фитцнера тоже не очень понятно… Якобы немецкий дальнобойщик Фитцнер, боясь проезжать весовой пост на перегруженной фуре, свернул с трассы на грунтовку и прямо под знаком «Осторожно, дикие животные» сбил косулю. Опасаясь, что его «примут» егеря, инспектора или просто неравнодушные граждане, Фитцнер не поленился выкопать и зашвырнуть в ближайшее болотце дорожный знак, а сам, тщательно заперев вверенное ему транспортное средство, груженное доверху заграничным дефицитом, взял на руки пораненную косулю и двинулся напролом через лес, надеясь встретить добрую русскую женщину.
– Это с какого переляку они тебя, дурака, утащат?
– На органы.
– Тю! – засмеялся Белогнутов. – На кой им твои органы, там, поди, от органов труха одна.
Царевнину стало обидно за свои органы и еще жальче себя. Чтобы не заплакать, он спросил:
– А как это озеро называется?
– По-всякому. Тут столько разных народов побывало, каждый по-своему звал… А еще береговая линия сильно изрезана, затонов, бухт много, каждому затону отдельное имя дадено. Так-то! А теперь спать. И руки чтоб поверх одеяла, – подмигнул.
«Цирк какой-то, – подумал Царевнин. – Спектакль».
Этот Белогнутов явно не такой валенок. А старается показаться валенком, потому что считает валенком его, Царевнина, ведь Царевнин тоже старается показаться простаком и алкашом из подворотни, для безопасности – чтобы никого не раздражать своими никчемными в этом месте знаниями и «московством». Царевнин знал, что чистый московский выговор и грамотность могут быть опасны для жизни.
Царевнин обрадовался – уже может раздумывать. Эта радость успокоила, она была сильнее тревоги, что кончились пилюли, которые доктор дал в дорогу.
Он легко заснул в тепле и спал хорошо, снилась чушь, но нестрашная: два милиционера, одетые, как раньше, в голубых фуражках, ныряют в озере, ухая и фыркая, а на берегу, на чистой мягкой траве, стоят дети и смеются, и большие меховые собаки тоже улыбаются, машут хвостами.
Утром умывался в сенях ледяной водой – понравилось. Пришел Белогнутов проводить на общую кухню. Царевнин пожал ему руку и сказал:
– Андрей Михайлович, я музыкант из Москвы, со мной на гастролях во Франции запой приключился, подвел я очень, и друзья меня сюда определили, в назидание.
– Починим! – заверил Белогнутов. – У нас тут и доктор имеется. Акушер, правда, но парень во такой! Гриша-акушер. А я из Питера, преподаватель истории и географии. На пенсии, конечно.
– Вы мне скажите, пожалуйста, это мы все где?
– В Огороде, – серьезно сказал педагог. – Это такой Огород.
«Где я?
Ризя! Ты куда меня засунул, Саша-Ума-Катя-Ася? Что это за богадельня? Какой-то, Боря-Лида-Яша-Дима-мягкий знак, санаторий-профилакторий общего режима! Песочница для мальчиков пятьдесят плюс.
По ходу, я тут самый молодой. Детская площадка “Ветеран”. Колхоз “Старый конь”. Турбаза “Лузер”. Дачный поселок “Неудачник”. Огородная артель. Мужской бордель для одиноких баб Нечерноземья. Кстати, это вообще какая область? Никто не знает. То ли Тверская, то ли Смоленская, а то и вовсе Псковская. По номерам машин не поймешь, то одно то другое. Глухой угол.
Эта баба, что собеседование проводила, она кто? Врач? Психолог? Психологов ненавижу! Сестра-хозяйка? С ней как говорить вообще? Ты ей что про меня наплел? Она приезжает, привозит харчи и лекарства, если кому надо. Тут кухня-столовая есть в отдельной избе с большой террасой. Готовим по очереди, когда на печке, когда на плитке, и две микроволновки есть. Еще баня и “салон,” или “штабной вагон,” – пустая изба с большой плазмой. Правда, похоже на детсадовскую дачу, только на стене террасы объявление: “Просьба найденные в лесу боеприпасы на территорию не приносить”. Самый запад, Ризя. Эти края всегда под раздачу попадали. Последние лет пятьсот. В болотах до сих пор самолеты лежат, ржавеют. Мины – эти просто как грибы. Интересные места – для тех, кто понимает. Ризя, вы меня надолго сюда определили? Нет, я не протестую, я просто спрашиваю. Вообще, жить можно. Избушки наши разбросаны по пригоркам, рядом озеро большое, такой загогулиной, как звать, никто точно не знает, тут один чокнутый целыми днями на озере зависает, не рыбачит даже, а так… Дружит. Постояльцев сейчас человек десять, я пятерых уже знаю, вроде нормальные, и совсем не все алкаши. Работать не заставляют, только самим себя обслуживать, готовить, стирать, порядок поддерживать, ну и огород. По вечерам кино и настольные игры. Я тебе письмо пишу от руки, потом сфотографирую и при случае, как поднимусь в поселок, на станцию, тебе отправлю на мыло. Там интернет хороший, четыре джи прямо со свистом летает, и вообще – цивилизация, магазы, почта, сбербанк, аптека. Тут красиво и тихо. Чтобы пересидеть, очухаться – самое то. Вот я и пересижу, а там видно будет. Ты платил за меня много? Я верну. А передержка эта? За деньги? Верну всё! Точно, передержка, только вместо собак – мужики. Прости, что так подвел на гастролях. Прости, друг. Наталье передай как-то аккуратно, что я к ней не вернусь и искать меня не надо. Ну давай. На днях отправлю это письмо. Ризя. Ты мне друг, скажи честно. Просрал я свою жизнь? В хлам просрал?
Или еще не совсем?»
Царевнин сфотографировал письмо.
Кончался март, пахло водой, оттаивающей землей, костром, слышалось, что где-то работает пилорама.
Постучавшись, заглянул Белогнутов, протянул два крепких яблока:
– Свои яблочки, наши. Храним грамотно, секрет старинный знаем… Ну что, пойдешь в штабную? Наши «мафию» затевают…
?
Довольно скоро Царевнин прекрасно освоился, или, как говорят про псов и котов, «прижился», и жалел только, что не может репетировать, упражняться, инструмента нет. Беспокоить Ризю, гонять в такую даль – надо же и совесть иметь когда-то, и так попил уже Ризиной кровушки… Хорошо Июнькину, «ипанату кальция», как называет его мужлан Буйвидас, – уходит в луга, в поля и танцует под свою внутреннюю музыку хоть до упаду.
Июнькин обожал танцевать, с детства прилипал к телевизору, когда передавали балет или народные танцы, ходил в хореографические кружки, а папа его, милицейское начальство в маленьком южном городке, считал, что мужик без погон – не мужик. Папа устроил сына служить в армию не куда попало, а во внутренние войска, зэков охранять. На этом почетном поприще с Июнькиным что-то произошло. «Из армии вернулся головушкой прискорбный. Не то побили, не то секретность какая, – рассказал про него Белогнутов. – А потом еще четыре женитьбы перенес. От этого тоже с головой лучше не становится…» После армии, ко всему прочему, Июнькин утратил способность к деторождению, хоть и сохранил пригодность для супружеской жизни. Это удачное сочетание, а также немногословная кротость привлекали к нему, мелкому, как подросток, крупных, крикливых и властных теть постарше.
Теперь Июнькин привязался к озеру, смотрел на него, сидел на берегу и что-то ему рассказывал, смеялся и купался с апреля по ноябрь, не простужаясь. А то уходил в луга и танцевал под свой внутренний тамтам.
Парники большие, даже мужлан Буйвидас, самый высокий в Огороде (подобранный хозяйкой на невольничьем рынке возле Мытищ), спокойно стоял во весь рост. Круглый год свежие огурцы, помидоры, перцы – поди плохо! Следили за чистотой и порядком на территории, за печками, дровами и колодцами. Жили мирно, только толстяк Белогнутов и пожилой ловелас Маркович не здоровались и не разговаривали друг с другом. Знойный, с седыми кудрями в синеву, Маркович измерял годы в женах. Никто почему-то не говорил ему, что выражение «три жены тому назад» придумал Воннегут и чтобы он не больно-то важничал.
А если и случались ссоры-споры среди постояльцев Огорода, то исключительно на микологические и ихтиологические темы: какая рыба как называется, какие грибы съедобны, а какие нет.
Ближе к лету в окрестностях появлялись копатели и монетчики. Копатели искали в лесу боеприпасы и «поднимали» останки бойцов. Были официальные поисковые отряды и просто любители старого оружия. Монетчики шерстили окрестности барских дач, искали старинные монеты. Но копателям со стариной везло больше – говорили, что недавно был найден сборник Гёте 1914 года издания и немецкий солдатский медальон 1941-го. Наверное, какой-то отец благословил своего сына этим сборником с готическим шрифтом. В свободное от огорода и хозяйства время постояльцы присоединялись к копателям или монетчикам, рыбачили, мастерили или предавались своим увлечениям (опальный журналист Мухов обожал реанимировать старые радиоприемники и магнитофоны, а его сосед, контуженый спецназовец Генварёв, любил готовить). Два раза в неделю ходили в баню. Иногда помаленьку выпивали, кому можно. За выпивкой или у костра беседовали, рассказывали, кто как ранился, резался или обжигался, кто откуда падал и как тонул, у кого какой чудила в армии был сержант, у кого какая сука теща… Кто как убегал на машине от гаишников, у кого какая машина в каком году как ломалась… Рассказывали анекдоты и небылицы. Когда анекдоты и небылицы кончались, просто хвастались, врали или жаловались – про женщин. И всегда все разговоры – после бани, у ночного костра на берегу, на привале в лесу или разбирая старый автомобиль – все разговоры приводили к женщине, устроившей этот запоздалый мальчишеский рай с карасями, щенятами, кострами и поисками кладов. Кто она? Врач? Изучает их, что ли? Предприниматель? Скучающая богачка? Откуда у нее семь изб, плюс штабная, плюс кухня, плюс баня? Это же какое богатство! А красный «Рэнглер-Рубикон»? Неизвестно. Никто даже толком не знал, как ее зовут. Спецназовец гнал телегу, что она потомок тех испанских детей, которых доброе советское правительство вывезло от фашистов, и что зовут ее по-испански Амор Каритас. Царевнин удивился, почему Белогнутов и журналист Мухов (эти-то двое наверняка знают) не объяснят остальным, что Амор Каритас – благотворительная организация или вообще экспонат в музее, образ и человека так звать не могут.
И сам тоже не стал объяснять.
Всегда спокойная, приветливая, она всех называла «хорошие мои», неважно, обращалась ли ко всем или к кому-то одному. Говорила тихо, поэтому ее и старались услышать. Летом в льняной, расшитой васильками тюбетейке, осенью и зимой – в чем-то вроде хевсурской шапочки, в валенках или резиновых сапожках с хохломскими узорами, так, дачница за рулем красного «рэнглера-рубикона». Никто даже не знал, сколько ей лет. Решили – от сорока до шестидесяти. Бабы сейчас и не такое умеют. У них не поймешь. Примочки там всякие. А она вообще бойкая такая… Царевнину она казалась ровесницей, за сорок, да.
Рассказывали:
что она бросила в доме престарелых умирающего старика-отца;
что она отказала жениху прямо в загсе и он повесился;
что с ней не общается, за что-то обидевшись, единственный сын;
и вот она якобы хочет искупить вину всех баб перед всеми мужиками и устроила этот Огород.
Царевнин понимал, что это фольклор, устное народное творчество.
Следующим сегментом «огородного» фольклора были истории про первых постояльцев. Тут возникали разночтения: одни считали, что первым постояльцем был беглый монах Иероним Отродьев, другие – что немецкий дальнобойщик Фитцнер. «Иероним Отродьев – это уж слишком», – сразу решил Царевнин. Но и про Фитцнера тоже не очень понятно… Якобы немецкий дальнобойщик Фитцнер, боясь проезжать весовой пост на перегруженной фуре, свернул с трассы на грунтовку и прямо под знаком «Осторожно, дикие животные» сбил косулю. Опасаясь, что его «примут» егеря, инспектора или просто неравнодушные граждане, Фитцнер не поленился выкопать и зашвырнуть в ближайшее болотце дорожный знак, а сам, тщательно заперев вверенное ему транспортное средство, груженное доверху заграничным дефицитом, взял на руки пораненную косулю и двинулся напролом через лес, надеясь встретить добрую русскую женщину.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: