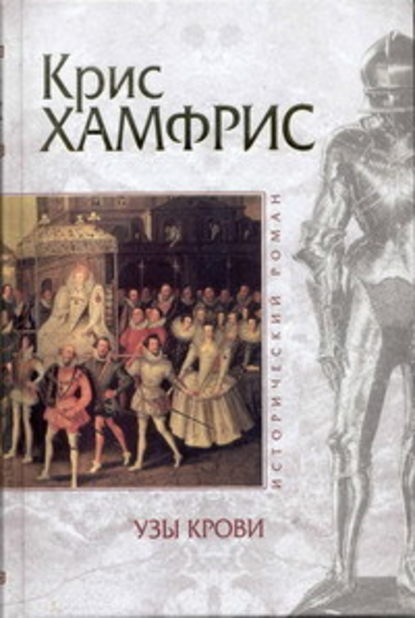По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Узы крови
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дочь прижимала его к лошади, ощущая, как содрогается его сердце, с каким трудом он дышит. Она знала, что Жана поддерживала только слабая надежда на то, что каким-то чудом рука все еще будет на месте, никем не потревоженная в своей неглубокой могиле, что сын французского палача не посягнет на клятву отца, что чудовище не восстанет из мертвых. Если бы все это оказалось так и поиски руки закончились, Жан смог бы вернуться в Тоскану, попытался бы помириться с Бекк, стал бы искать желанного и столь заслуженного им покоя. Анна надеялась на это и молилась об этом – как умела. Однако она не могла не понимать, что Джанни опередил их слишком сильно.
«Но которую из четырех дорог мы должны теперь выбрать?» – подумала она.
Ни Фуггеру, ни Эрику не удалось подслушать, куда именно намерены отправиться осквернители могилы. Закрывать глаза и погружаться в мысленное созерцание бесполезно: видения показывали Анне последствия тех или иных деяний, но не распространялись на способы поиска недругов. В небе, среди обрывков туч, она увидела Полярную звезду, показывающую дорогу на север: именно за ней они следовали с побережья. Следует ли продолжить путь на север? Поскольку им с отцом не известны намерения ее брата, любое направление может оказаться противоположным истинному. Анна не в состоянии была почувствовать, где именно находится Джанни. Идти назад? Тогда они уже встретились бы с ним на дороге. На восток, который постепенно светлел, предвещая приближение дня? Вниз, в сторону гор, где им придется перебраться через несколько горных хребтов, чтобы в конце концов попасть в Италию и, следовательно, проникнуть в Рим, к сердцу его возлюбленной Церкви? Или… Именно в тот миг, когда Анна повернулась на запад, она увидела фигуру – силуэт, который девушка сначала приняла за часть мусорной кучи. Фигура отделилась от теней под виселицей, словно притянутая светом луны: капюшон низко опущен, руки крепко переплетены на животе, спина прижата к деревянному столбу.
– Отец!
Вскрик дочери заставил Жана отскочить от лошади. Та испуганно шарахнулась к краю поля, увлекая за собой и второе животное. Жан посмотрел на Анну, проследил за направлением ее руки – и замер. Наконец Жан прошептал:
– Он уже был здесь, когда мы подъехали, или только что восстал из-под земли? Он – исчадье ада или человек?
Она шепотом ответила:
– Я не знаю.
Им удалось разглядеть, что на видении – коричневый плащ, что его голые ноги обуты в сандалии, а на коленях у него собралась лужица дождевой воды.
– Я подойду посмотреть. – Анна шагнула вперед.
– Нет. – У Жана так пересохло в горле, что слова прозвучали как шелест. Кашлянув, он возразил: – Пойду я.
Но сперва он вернулся к лошади, успокаивая ее тихими уговорами, и залез во вьюк. Нашарил под мешковиной рукоять. Однако Жан не был готов взяться за меч. В седельной кобуре лежали пороховница и колесный пистолет. Он бережно высыпал немного свежего пороха на полку и опустил зубчатое колесико на кремень. Держа оружие перед собой, он осторожно двинулся к виселице.
Жан находился всего в шаге от нее, когда капюшон поднялся. Ромбо уже собрался выстрелить: нажал на спусковой крючок и почувствовал, как тот немного поддался. Стоит чуть увеличить давление – и вылетит искра и свинцовая пуля отправит этого демона обратно в тот ад, из которого он явился. Но тут демон заговорил. Он произнес всего одно слово.
– Ромбо, – сказал он, и под складками коричневой ткани Жан увидел перечеркнутое тенью лицо.
Хотя этому лицу самое место в каком-нибудь кошмарном сне, Жан знал: оно отнюдь не явилось прямо из ада. Ему не раз уже случалось видеть его – под взмахами клинков, сквозь пелену крови, через стены мучительной боли. Девятнадцать лет назад Жан думал, что видит его в последний раз: тогда оно рухнуло в эту же самую глинистую почву и кинжал Фуггера торчал из его глаза. И хотя Жан уже слышал о том, что этот полутруп все еще ходит по земле, его собственное имя, произнесенное Генрихом фон Золингеном, заставило бывшего палача застыть на месте, безуспешно пытаясь спустить курок.
Женский голос вторгся в тяжелое молчание:
– Это он, отец? Это твой мучитель?
– Мучитель. – Слово сорвалось с изуродованных шрамами губ так, словно говорящий пробовал его на вкус. Голос звучал бесцветно. – Я тебя мучил. Я собирался посмотреть, как ты умрешь.
– Какой договор ты заключил с сатаной, Генрих фон Золинген, что все еще продолжаешь жить? Здесь, на этом месте, девятнадцать лет назад, я считал, что вижу, как ты умираешь.
– Ну так можешь посмотреть, как я умираю сейчас.
С этими словами Генрих фон Золинген отнял руки, которые сжимал на животе, и лужица, которую Анна считала дождевой водой, внезапно наполнилась внутренностями и новой порцией крови. Лицо изувеченного побледнело, единственный глаз закрылся.
– Нет!
Анна с криком рванулась вперед, так что Жан не успел ее задержать. Ее руки попытались повернуть вспять этот ужасный поток, остановить неумолимую волну смерти. Скользкие от крови пальцы Генриха сомкнулись на руке Анны с такой силой, что она не могла высвободиться.
Жан шагнул вперед с поднятым пистолетом, но жестом свободной руки Анна заставила его остановиться:
– Нет, отец.
Она никогда не могла выносить страданий – ничьих, будь то даже крыса в ловушке или бешеная собака. Вот и теперь она держала руку человека, который причинил невыносимые мучения тому, кого она так любила. Ее голос прозвучал мягко:
– Да пребудет с тобой мир, друг.
– Мир. Друг. – Он снова пробовал на вкус незнакомые его губам слова. – Я никогда не знал таких вещей.
– Возможно, скоро узнаешь.
Умирающий посмотрел сквозь девушку, мимо нее – вдаль и в прошлое, а потом снова обмяк.
– Мне говорили, что я грешник. Я даже могу вспомнить, почему меня так называли. Ромбо носит на теле шрамы, которые доказывают мою вину. Но… – Тут Генрих фон Золинген содрогнулся, и лицо его исказилось от боли. – Что-то произошло со мной здесь. Что-то случилось, когда кинжал вонзился мне в голову. Тогда мне действительно следовало Умереть. Тот удар перерезал связь между грехами и их причиной. Они не причиняют мне больше ни стыда, ни радости. Они просто есть.
Его голос становился все слабее, веко трепетало, словно вот-вот готовясь закрыться. Затем его единственное тусклое око обратилось к Анне.
– Глаза у тебя такие же, как у брата.
Анна наклонилась к нему поближе.
– Ты его знаешь?
– Это ведь я привел его сюда. Он забрал то, что было здесь зарыто. И ударил меня ножом – вот сюда.
Его руки раздвинулись, выпустив новый поток крови.
– Ты лжешь. – Жан шагнул к Генриху, держа перед собой пистолет. – Не верь ему, Анна! Ты же знаешь своего брата. Кем бы он ни был, он не убийца. Он готовится стать священником!
Голос калеки зазвучал снова. Теперь это был сиплый шепот:
– Твой сын владеет клинком не хуже, чем ты, Ромбо. А может, и лучше. Трудно судить, потому что я не сопротивлялся. Он вернулся за мной, когда тот, другой, англичанин, уехал. Иезуит готов был оставить меня здесь, коль скоро я отказался уходить. Так что твое желание исполнилось. Ты можешь посмотреть, как я умру. На этой самой земле. Меня убила кровь от твоей крови.
Анна снова стиснула руку умирающего и накрыла ее второй ладонью, пытаясь согреть ледяную плоть.
– Друг, ты не можешь нам помочь? Куда он… – Девушка содрогнулась при мысли о своем брате и о том, что он здесь совершил: эти страшные раны не могло исцелить даже ее искусство. – Куда он увез то, что было здесь зарыто?
Анне показалось, что она опоздала: на запястье перестал биться пульс, и девушка ощутила, как над ней открылась дверь, как открывалась она для Джузеппе Тольдо, как откроется когда-нибудь для каждого из живущих. Шепча слова, которые должны были облегчить его уход, Анна вдруг почувствовала, как пальцы умирающего снова сжались сильнее, а губы зашевелились. Она наклонилась еще ниже.
– Что, друг? Что?
Все слова были сказаны. Всего несколько слов. А потом он ушел. Вне всяких сомнений, Генрих фон Золинген наконец умер.
Анна осторожно сложила его руки на животе и, выпрямившись, повернулась к отцу.
– Лондон, – объявила она, отправляясь за лошадьми. – Джанни повез руку в лондонский Тауэр.
Ее слова болезненно резанули по нему, окончательно убив слабую надежду на то, что здесь все-таки наступит конец, что он сделал все возможное, что ему дозволено не преследовать химеру, коль скоро он не знает, какое направление было избрано похитителями. Жан Ромбо вновь оказался на перепутье – его дорога определена.
– Лондон, – проговорил он так же просто, как это сделал бы Генрих фон Золинген.
Место, где все начиналось. Лондон.