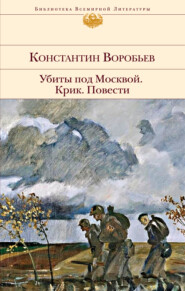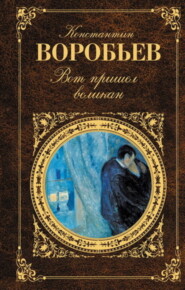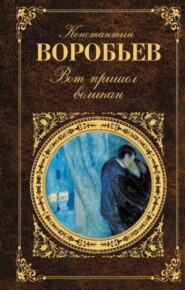По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Убиты под Москвой
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Бросьте тянуться, Ястребов! Вы не на экзамене… Кстати, что вам говорил о фронте… красноармеец Переверзев?
Пачка «Беломорканала» слежалась лепешкой, и Алексей никак не мог ухватить сплюснутый мундштук папиросы. Он хотел предложить капитану папиросу, но не сделал этого и закурил без его разрешения. Он молчал, затягиваясь до тошнотворной рези в груди, и тогда капитан спросил еще:
– Курсанты все слышали?
– Все, – сказал Алексей. – Генерал-майор…
– Хорошо, – перебил капитан. – Объясни, пожалуйста, взводу, что это был не генерал, а боец… Контуженый. Установил это я сам. – Понимаешь?
– Я все понял, – негромко сказал Алексей, с какой-то обновленной преданностью глядя в глаза Рюмина.
– Обстановка не ясна, Алексей Алексеевич, – неожиданно и просто сказал капитан. – Кажется, на нашем направлении прорван фронт…
И все тем же, немного не своим и немного не военным тоном капитан сказал, что ночью за ров пойдет разведка и что от штаба ополченского полка должны тянуть сюда связь и должны подойти соседи слева и справа. Ушел Рюмин тоже не по-своему – он не приказал, а посоветовал выставить за кладбищем усиленный пост, порывисто сжал руку Алексею и легонько толкнул его к окопу.
До полночи от невидимого леса, мимо деревни прошли два батальона рассеянной пехоты, проехали несколько всадников и три повозки. Все это двигалось в сторону, где, по словам капитана Рюмина, находился переформировочный пункт: отступающие наталкивались в поле на посты курсантов, забирали вправо, и рядом с ними по полю волочились длинные четкие тени. Все это время Алексей был в окопе с дежурным отделением, и, когда скрылись повозки и поле очистилось от их копнообразных теней, он решил ничего не говорить курсантам о красноармейце, выдавшем себя за генерала. К чему? Теперь и без контуженых все было ясно…
В половине третьего из-за рва возвратились наряды, а ровно в пять капитан отдал приказ привести взводы в боевую готовность. «Наверное, вернулась разведка!» – подумал Алексей, и с него мгновенно слетела та продрогло-цепенящая усталость, которая обволакивает человека в зимнюю бессонную ночь. Почти бессознательно он надел каску, затянул на одну дырочку поясной ремень и только после этого распорядился поднять по тревоге остальные отделения, отдыхающие в крайних избах.
Еще днем курсанты плотно утоптали и приноровили к собственному характеру и к оружию свои места в окопе, – тогда каждый был друг от друга на расстоянии в полметра. Теперь же все пятьдесят два человека образовали слитную извилистую шеренгу и, толкаясь локтями и гремя винтовками, не думали разойтись попросторнее. Может, каски, а может, лунный полусвет делали курсантов противоестественно высокими и обманчиво загадочными. Они повозились и разом затихли, обернув стволы винтовок в стылую сумеречь рва и поля. В деревне в это время начали дымиться трубы – украдкой, через две-три хаты, и в окопах запахло хвоей, жареным луком и картошкой. Как удар, Алексей ощутил вдруг мучительное чувство родства, жалости и близости ко всему, что было вокруг и рядом, и, стыдясь больно навернувшихся слез, он крикнул исступленно, с непонятной обидой и злостью ко всему тому, над чем только что чуть не плакал:
– Рассредоточиться, черт возьми! Всем по своим местам!!
Команда была выполнена немедленно и молча, и в чуткой предутренней тишине из погребов опять пробились петушиные голоса. Кто-то из курсантов сказал мечтательно, в сладком молодом потяге:
– Сейчас бы кваску покислей да… рукавичку потесней! А-ахх! – И вокруг озорно и сочувственно засмеялись.
За деревней помаленьку светлело небо, и в той его части розово мигали и гасли звезды. У сепараторного пункта стали проглядываться верхушки осин. Повернув кудлатые головы к ветру, на них сидели вороны, и в улицу падал их резкий простылый крик, – наступало утро. Алексей изо всех сил боролся с дремотой, и было невозможно унять мелкую трепетную дрожь мышц, и поминутно надо было ходить по малой нужде. Он стоял спиной ко рву, когда несколько курсантов разнобойно крикнули: «Стой, кто идет?» От пролаза во рву к окопу не спеша шел широкий приземистый человек в хитро надетой шапке – один ушной клапан был опущен, а другой поднят вверх, и винтовку человек нес по-охотничьи, стволом в землю, и было ясно, что это свой, и окликали его для порядка, о чем он, видно, хорошо знал, потому что не останавливался и не отзывался. Подойдя к брустверу и оглядев окоп, красноармеец напевно сказал:
– Ну во-от. Не шибко прилаживался, а хорошо попал. Пер-пер по этой вашей канаве, а тут гляжу – маковка церковная…
Он выглядел за сорок – возраст, на взгляд курсантов, уже стариковский, и у него было поранено ухо, темневшее комком запекшейся крови. Он сел в окопе у ног Алексея на свою противогазную сумку, и она даже не поморщилась под ним – до такой степени оказалась набитой каким-то солдатским хозяйством. Его никто ни о чем не спрашивал, и он сам сказал о своем ухе:
– Прикроешь шапкой – и сразу нудить начинает. А на холоде вроде ничего…
– Перевязать надо, – морщась, сказал Алексей. – Чем это вас?
– Осколком. Как перепел: фрр – и ни его, ни уха. Даже не почуял.
Он улыбнулся, но как-то больно, одной стороной лица, и помкомвзвода спросил тогда:
– У вас командиром дивизии был не генерал-майор Переверзев?
– Этого не знаю, брат, – ответил боец. – С начальством я знаком мало. А что?
– Товарищ генерал на полсуток пораньше тебя переправился тут, баском сказал кто-то из курсантов.
– Ну, большой меньшего в таких делах не дожидается, – назидательно рассудил боец. – Что ему: голова на плечах, шапка небось нахлобучена на оба уха…
– Он в красноармейской пилотке… и в шинели без петлиц, – опять сказал тот же курсант, но уже с особой интонацией в голосе.
– Да ну? – бесстрастно, для вида, удивился раненый. И, помолчав, добавил: – Выходит, недавно человек ослеп, а уже ничего не видит,… Нас там хотя и полегла тьма, но живых-то еще больше осталось! Вот и блуждаем теперь… А он вроде того мужика – воз под горой лежит, зато вожжи в руках…
– Ну, вот что, нечего тут, – растерянно сказал Алексей. – Кончай разговоры. Всем по местам!
Курсанты снова четко и молча выполнили приказание, а боец, только теперь разглядев кубари Алексея, начал было привставать с сумки, но раздумал и больно улыбнулся одной стороной лица.
– Тут горе вот какое, товарищ командир, – виновато заговорил он, косясь на нишу, где синели бутылки с бензином. – Ведь танку в лоб не проймешь такой поллитрой! Тут надо ждать, покуда она репицу свою подставит тебе… Мотор там у нее спрятан, вот штука-то! А тогда уже поздно бывает – окопы распаханы, люди размяты… Что делать-то будем, а?
– Вы давайте в госпиталь! Это вон в том направлении, – строго сказал Алексей и зачем-то загородил собой нишу.
– А может, мне у вас остаться? – спросил боец. – Ухо мое и без докторов присохнет.
– Давайте в госпиталь! – повторил Алексей. – У нас вам оставаться нельзя. Мы… – и не сказал, что хотел.
Боец насмешливо оглядел его с ног до головы, встал и разом вскинул на плечи винтовку и сумку.
– Ну что ж… Тогда пошли, кургузка, недалеко до Курска, семь верст отъехали, семьсот ехать! – стихом проговорил он и умеючи вылез из окопа.
В девятом часу к четвертому взводу – тоже, видать, на церковную маковку – от леса петляючи и осторожно поползли два грязно-серых броневика.
Еще на середине поля они немного разъехались в стороны, и к деревне беззвучно и медленно потянулись от них разноцветные фосфоресцирующие трассы. Пули воробьиной стаей прочирикали над окопом, и потом уже долетел слитный стрекот пулеметов и стал натужнее вой моторов, – броневики на малых скоростях закружили на месте.
Алексей не спеша обнажил пистолет и перестал дышать. Вот они, немцы! Настоящие, живые, а не нарисованные на полигонных щитах!.. Ему было известно о них все, что писалось в газетах и передавалось по радио, но сердце упрямилось до конца поверить в тупую звериную жестокость этих самых фашистов; он не мог заставить себя думать о них иначе как о людях, которых он знал или не знал – безразлично. Но какие же эти. Какие? И что сейчас надо сделать? Подать команду стрелять? «Нет, сначала я сам. Надо все сперва самому…»
С локтя, в напряженном ожидании какого-то таинства, Алексей дважды выстрелил из пистолета в тупое рыло одного и второго броневика, и сразу же взвод ахнул залпом, а дальше выстрелы посыпались в самозабвенной торопливой ярости, и Алексей опять начал прицельно бить – раз по одному броневику, раз – по второму. Не отвечая, броневики развернулись и помчались к лесу.
И только тогда Алексей понял, что стрелять было нельзя, и поглядел вдоль окопа. У курсантов возбужденно блестели под касками глаза; они молча и спешно наполняли магазины патронами.
– Вот врезали! Правда, товарищ лейтенант? – У помкомвзвода блестели зубы и трепетали ноздри.
– Сейчас нам капитан не так за это врежет, – сказал Алексей, заглядывая в ствол теплого пистолета. – Это ж разведчики были, а мы обнаружили себя раньше времени.
– Ну и черт с ними! Пускай знают!
– Что «знают»? – невольно входя в роль капитана, спросил Алексей.
– А все! – вызывающе сказал помкомвзвода. – Подумаешь! Пускай знают!
Не прятаться же нам в скирды! Пускай знают!
Алексей помолчал и сказал:
– Ну пускай. Давай хлопочи насчет кормежки людей. Десятый час уже.
Вскоре во взвод пришел политрук роты Анисимов – тихий сутуловатый человек с большими молящими глазами. Курсанты давно знали, что у него катар желудка, и всем казалось, что ему постоянно нехорошо и больно, и всем становилось легче и веселее, когда он кончал политинформацию и уходил.
Как-то весной еще Анисимов сказал на политзанятиях, что Англия наконец-то потеряла свое былое мифическое значение на морях и океанах. Он произнес это неуверенно и смущенно, и с тех пор курсанты называли его «мифическим значением».