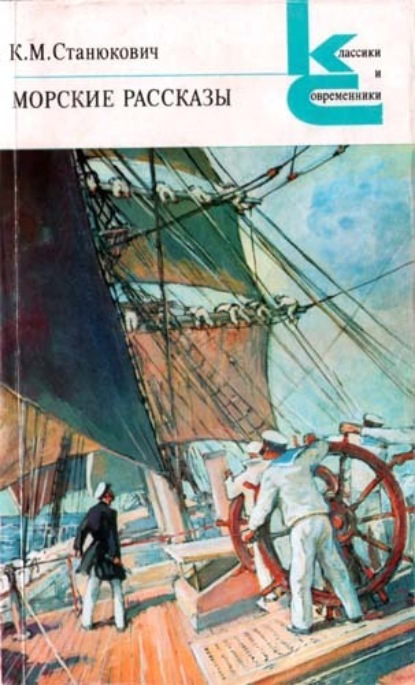По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Волк
Жанр
Серия
Год написания книги
1900
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Суровый на вид, он обыкновенно редко сердился, и его трудно было разозлить. Только скалил свои крепкие белые зубы и добродушно подсмеивался. Но, когда его охватывал гнев, он напоминал обозленного волка, и все боялись довести матроса до исступления. Знали, что мог избить до смерти, если не удержать силой.
В последнее время Волк сразу изменился. Стал молчалив, угрюм и раздражителен. По временам долго смотрел на море, точно думал какие-то невеселые думы, и глаза его были тоскливые, какими прежде не бывали.
От людей старался скрыть тоску, и матросы, любившие и уважавшие Волка, только дивились, пока не узнали, что его бросила Фенька, безумная «приверженность» к которой была известна на корвете и всех изумляла.
– Чудеса! Вовсе втемяшился Волк! – говорили тихонько на баке.
Но подсмеиваться над ним не смели.
Все знали, что Волк вообще не любил «пакостных» разговоров, как называл он циничные шутки о бабах, обычные на баке, и очень озлился бы за Феньку. Раз он избил до полусмерти одного матроса, сказавшего при нем что-то скверное о ней.
И это хорошо помнили на баке.
Шлюпка повернула с рейда в Корабельную бухту.
Море точно дремало. Кругом было тихо-тихо… Только часовые с блокшивов, на которых жили арестанты, перекликались протяжными «слу-шай!..».
Огоньки мигали в домах слободки.
Волк глядел на огоньки… Еще месяц тому назад Фенька здесь жила…
«Конец!» – подумал Волк, и чувство обиды и боли охватило его, когда он опять вспомнил «скоропалительность» перемены Феньки… Была, кажется, привержена, обещала вернуться из Симферополя и вдруг так «обанкрутила»…
Слова Руденки жалили его сердце, точно змея…
– Что, брат Волк… Болит голова? – вдруг участливо спросил мичман.
– Самую малость, ваше благородие!
– Верно, скоро выпишешься…
– Как бог, ваше благородие…
– Экий подлец этот Руденко!.. Уж ему будет!
– И без того… избил… А полегче бы его пороть, ваше благородие!.. Заступились бы, ваше благородие, перед старшим офицером… Зачинщик-то я… Я и виноватый!
– И ты еще заступаешься за подлеца? – воскликнул мичман, тронутый словами Волка.
– А то как же, ваше благородие? Не оборонись он и не ошарашь ножом, пожалуй, быть бы мне убивцем… За это в арестанты.
– Разве убил бы?
– В обезумии человек на все пойдет, ваше благородие, – необыкновенно просто и убежденно сказал Волк.
«Он по-настоящему любит», – снова подумал мичман.
И ему стало обидно, что он не только не вызвал на дуэль одного лейтенанта, который в кают-компании назвал «божественную» Веру Владимировну «любительницей похождений», но промолчал и теперь даже разговаривает с лейтенантом.
«И какой я подлец в сравнении с Волком!» – мысленно проговорил мичман.
Он несколько минут молчал, чувствуя себя виноватым и восхищенный любовью матроса. И вдруг порывисто и сердечно проговорил, понижая голос до шепота:
– Знаешь что, Волк?
– Что, ваше благородие? – чуть слышно ответил Волк.
– Может, ты захочешь известить Феньку, что ты в госпитале… Так скажи адрес. Я напишу.
– Спасибо, ваше благородие… Не надо!
И при лунном свете лицо Волка показалось угрюмее, когда он еще тише прибавил:
– Не приедет, ваше благородие!..
– Шабаш! – крикнул мичман.
Четверка остановилась у пристани.
Юный мичман приказал гребцам ждать его возвращения и вместе с Волком вышел на берег.
– Скорей поправься – и на конверт, Лаврентий Авдеич! – горячо проговорил молодой загребной на четверке.
– Спасибо, братцы! Чуть починят башку – на конверт!
Мичман с Волком поднимались в гору. Матрос шел немного сзади, соблюдая дисциплину.
– Иди рядом, Волк! – наконец проговорил Кирсанов.
– Есть, ваше благородие!
И Волк поравнялся с мичманом.
– Отчего, ты думаешь, не приедет?.. Только написать… Навестит.
– Не надо, ваше благородие.
– Недобрая, что ли, она?
– Она?! Руденко все набрехал на нее! – возбужденно проговорил Волк.
– Так отчего же она уехала?.. Ты так привязан к ней. Нарочно зимой на вольную работу ходил, чтобы только…
– Не пытайте, ваше благородие! – перебил матрос.
В его голосе звучала почти что мольба.
Юный мичман сконфузился и смолк.
В последнее время Волк сразу изменился. Стал молчалив, угрюм и раздражителен. По временам долго смотрел на море, точно думал какие-то невеселые думы, и глаза его были тоскливые, какими прежде не бывали.
От людей старался скрыть тоску, и матросы, любившие и уважавшие Волка, только дивились, пока не узнали, что его бросила Фенька, безумная «приверженность» к которой была известна на корвете и всех изумляла.
– Чудеса! Вовсе втемяшился Волк! – говорили тихонько на баке.
Но подсмеиваться над ним не смели.
Все знали, что Волк вообще не любил «пакостных» разговоров, как называл он циничные шутки о бабах, обычные на баке, и очень озлился бы за Феньку. Раз он избил до полусмерти одного матроса, сказавшего при нем что-то скверное о ней.
И это хорошо помнили на баке.
Шлюпка повернула с рейда в Корабельную бухту.
Море точно дремало. Кругом было тихо-тихо… Только часовые с блокшивов, на которых жили арестанты, перекликались протяжными «слу-шай!..».
Огоньки мигали в домах слободки.
Волк глядел на огоньки… Еще месяц тому назад Фенька здесь жила…
«Конец!» – подумал Волк, и чувство обиды и боли охватило его, когда он опять вспомнил «скоропалительность» перемены Феньки… Была, кажется, привержена, обещала вернуться из Симферополя и вдруг так «обанкрутила»…
Слова Руденки жалили его сердце, точно змея…
– Что, брат Волк… Болит голова? – вдруг участливо спросил мичман.
– Самую малость, ваше благородие!
– Верно, скоро выпишешься…
– Как бог, ваше благородие…
– Экий подлец этот Руденко!.. Уж ему будет!
– И без того… избил… А полегче бы его пороть, ваше благородие!.. Заступились бы, ваше благородие, перед старшим офицером… Зачинщик-то я… Я и виноватый!
– И ты еще заступаешься за подлеца? – воскликнул мичман, тронутый словами Волка.
– А то как же, ваше благородие? Не оборонись он и не ошарашь ножом, пожалуй, быть бы мне убивцем… За это в арестанты.
– Разве убил бы?
– В обезумии человек на все пойдет, ваше благородие, – необыкновенно просто и убежденно сказал Волк.
«Он по-настоящему любит», – снова подумал мичман.
И ему стало обидно, что он не только не вызвал на дуэль одного лейтенанта, который в кают-компании назвал «божественную» Веру Владимировну «любительницей похождений», но промолчал и теперь даже разговаривает с лейтенантом.
«И какой я подлец в сравнении с Волком!» – мысленно проговорил мичман.
Он несколько минут молчал, чувствуя себя виноватым и восхищенный любовью матроса. И вдруг порывисто и сердечно проговорил, понижая голос до шепота:
– Знаешь что, Волк?
– Что, ваше благородие? – чуть слышно ответил Волк.
– Может, ты захочешь известить Феньку, что ты в госпитале… Так скажи адрес. Я напишу.
– Спасибо, ваше благородие… Не надо!
И при лунном свете лицо Волка показалось угрюмее, когда он еще тише прибавил:
– Не приедет, ваше благородие!..
– Шабаш! – крикнул мичман.
Четверка остановилась у пристани.
Юный мичман приказал гребцам ждать его возвращения и вместе с Волком вышел на берег.
– Скорей поправься – и на конверт, Лаврентий Авдеич! – горячо проговорил молодой загребной на четверке.
– Спасибо, братцы! Чуть починят башку – на конверт!
Мичман с Волком поднимались в гору. Матрос шел немного сзади, соблюдая дисциплину.
– Иди рядом, Волк! – наконец проговорил Кирсанов.
– Есть, ваше благородие!
И Волк поравнялся с мичманом.
– Отчего, ты думаешь, не приедет?.. Только написать… Навестит.
– Не надо, ваше благородие.
– Недобрая, что ли, она?
– Она?! Руденко все набрехал на нее! – возбужденно проговорил Волк.
– Так отчего же она уехала?.. Ты так привязан к ней. Нарочно зимой на вольную работу ходил, чтобы только…
– Не пытайте, ваше благородие! – перебил матрос.
В его голосе звучала почти что мольба.
Юный мичман сконфузился и смолк.