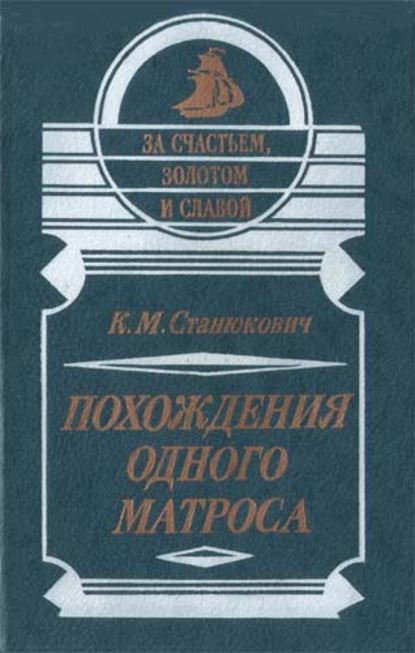По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Похождения одного матроса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какая генеральская?.. Тут и генералов-то нет! – несколько презрительно возразил Артемьев. – А у мериканцев, братец ты мой, такое положение, чтобы, значит, женский пол уважать и не смей бабу обидеть… Слова дурного ей не скажи, а не то что вдарить… Совсем другой народ эти мериканцы. Вот только негрой брезгуют, точно не все у бога люди равны! – недовольно прибавил Артемьев. – Однако что стоять, валим, братцы! Наши-то все по салунам разбрелись…
– Это какие же салуны?
– А так здесь кабаки прозываются. У нас кабак, а здесь салун… Ну и много чище наших будут. Ужо зайдем.
Действительно, большая часть съехавших на берег матросов, разбившись по кучкам, уже разошлась по ближайшим кабачкам, которых было множество тут же на набережной. Знакомством с ними и ограничится знакомство большинства матросов с Сан-Франциско. Пьяный разгул, пьяные песни, нередко драки с матросами-иностранцами – вот единственные развлечения матросов прежнего далекого времени.
И у кого поднимется рука, чтобы кинуть в них камень осуждения? У кого хватит духу обвинить этих тружеников моря, этих покорных рыцарей тяжкого долга, этих простых, темных людей, которые в дурмане спиртных напитков ищут веселья и радостей, ищут забвения действительности, далеко к ним не ласковой.
Кирюшкин, ни в одном из иностранных портов, посещенных «Проворным», дальше ближайшего в них кабака ни разу не заходивший и потому, вероятно, находивший, что «заграница ничего не стоит» и что русская водка лучшая в свете, уже сидел в одном из самых плохоньких кабачков за столиком у окна в компании трех таких же отчаянных пьяниц с «Проворного», каким был и сам.
Выпивший для начала большой стакан крепчайшего рома одним махом, чем заставил негра «боя» (слугу) вытаращить глаза от изумления, Кирюшкин выразительными пантомимами потребовал бутылку того же напитка и, разлив его по стаканам, любовно цедил из своего стакана, перекидываясь отрывистыми словами с товарищами.
– Куда, Вась? – окликнул он проходившего мимо Чайкина.
Три матроса остановились у окна.
– В город погулять, Иваныч. И кое-что купить в лавках.
– Правильно, матросик. Иди гуляй как следовает, честно и благородно… И винища этого лучше и не касайся… А уж я выпью за твое здоровье… чтоб ты цел остался… Ты – парнишка душевный, и я, брат, тебя люблю… Жалостливый…
И с этими словами Кирюшкин опорожнил стакан.
– Прощай, Вась… Ужо завтра будут меня форменно шлифовать, так, может, в лазарет снесут, так ты зайди…
– Зайду, Иваныч… А пока что прощай!
Минуту спустя Чайкин раздумчиво проговорил:
– А и жалко, Артемьев, человека.
– Это ты про Кирюшкина?
– То-то, про него.
– Сам виноват. Не доводи себя до отчаянности, не пей безо всякой меры. Пропащий вовсе человек. И быть ему в арестантских ротах! – строго проговорил Артемьев.
Молодому матросу показалось, что все, что говорил Артемьев, может быть и справедливо, но это суждение не нашло отклика в его добром сердце. Виноват не виноват Кирюшкин, а все-таки его жалко.
И он спросил:
– А старший офицер отдаст его в арестантские роты, Артемьев?
– Навряд. А что завтра снесут его после порки в лазарет, это верно.
– И Кирюшкин так полагает. Зайти к ему в лазарет просил.
Вскоре три матроса, держась за руки, вышли на большую улицу Mongomery-strit и пошли по ней, глазея на высокие большие дома, сплошь покрытые объявлениями, на роскошные гостиницы, на витрины блестящих магазинов, на публику.
Они долго бродили по улицам и, наконец, зашли в одну из лавок, попроще на вид, сняли шапки и робко остановились у прилавка.
Черноватый приказчик с цилиндром на голове, жевавший табак, вопросительно посмотрел на русских матросов.
– Спрашивай, Артемьев, насчет рубах. Ты знаешь по-ихнему! – заметил Чайкин.
– То-то, забыл, как по-ихнему рубаха… А знал прежде.
Но сообразительный янки вывел матросов из затруднения. Он тотчас же достал несколько матросских рубах, штанов, фуфаек, башлыков и все это бросил на прилавок перед матросами.
Они весело закивали головами.
– Вери гут… Вери гут… [2 - Очень хорошо… Очень хорошо… (англ. very good).] Вот это самое нам нужно. Догадливый, братцы, мериканец! – говорил Артемьев.
– А как цену узнаем? – спросил Чайкин.
И об этом догадался янки.
Он показал рукой на башмаки и поднял три пальца, показал на рубахи и поднял палец и потом половину его, тронул фуфайку и поднял один палец.
Все это он проделал быстро, с серьезным видом и затем отошел к витрине и стал смотреть на улицу, не обращая ни малейшего внимания на покупателей.
– Значит, три доллара, полтора и один. А доверчивый! Другой придет и стянет что у такого купца! – заметил Артемьев.
– Видно, полагается на совесть, – промолвил Чайкин.
Матросы стали рассматривать вещи с тою внимательностью, с какою это делают простолюдины, для которых дорога каждая копейка и которые поэтому с подозрительною осторожностью приступают к покупке. Они ощупывали ткань, подносили вещи к свету, рассматривали на башмаках подошвы и гвозди.
– Товар, братцы, хороший. Только надо поторговаться. Мусью! – поднял голос Артемьев.
Янки подошел, и между ними произошла такая мимическая сцена.
Артемьев, указывая на башмаки, показал два пальца.
Приказчик, не говоря ни слова, отрицательно мотнул головой.
Тогда Артемьев показал еще четверть пальца, наконец половину.
Результат был тот же самый. То же было, когда Артемьев мимикой давал дешевле назначенной цены за рубахи и фуфайки. Янки отрицательно махнул головой.
– Не уступает. Валим в другие лавки! Может, вернет!
И матросы пошли к дверям, но приказчик и не думал ворочать покупателей.
Они вышли на улицу, и Чайкин сказал:
– Не по-нашему вовсе… Чудно… Без запроса!
Побывавши в нескольких лавках и убедившись, что везде спрашивали такую же цену (ни центом более или менее), матросы возвратились в первую лавку, где приказчик показался им самым понятливым и обходительным, и после нового тщательного осмотра и примерок вещи были куплены.