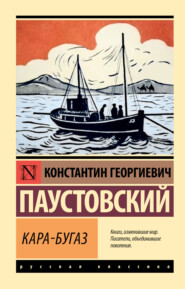По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Северная повесть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В книгу вложено письмо. Оно тоже осталось после Анны. Она с ним никогда не расставалась.
Щедрин перелистал книгу и вынул несколько твердых желтых листков, исписанных гусиным пером. Писавший, видимо, торопился. На странице было много брызг от чернил.
«Анна, – прочел Щедрин, – я совершил великий грех перед тобой, не сказав тебе ни слова о предстоящей дуэли».
От письма шел запах сухой лаванды.
Щедрин читал письмо, хмурился, и руки у него начали дрожать так сильно, что он вынужден был положить письмо на стол, чтобы не выдать своего волнения.
Доктор и Якобсены старались не смотреть на Щедрина. Доктор постукивал пальцами по столу и напевал. Он делал это только в минуты сильного душевного смятения.
…Почти всю ночь Щедрин не спал. Он несколько раз перечитывал письмо Павла Бестужева, перечитал «Эду» Баратынского и подолгу задумывался над местами, отчеркнутыми карандашом. Особенно запомнились Щедрину две строки:
Когда, когда сметешь ты, вьюга,
С лица земли мой легкий след?
Светлая ночь теплилась за окнами. Вода блестела, как фольга. В северной мгле тлел закат. Запах травы и влажных камней проникал в комнату вместе с голосами птиц.
В такие ночи все кажется прекрасным, даже самые обыкновенные человеческие лица. Тем более прекрасным казалось лицо Анны.
«Наши мучения и гибель, – прочел Щедрин строчку из письма, – ударят по сердцам с томительною силой».
«Что сделать, чтобы осуществить это пророчество?» – подумал Щедрин. Если бы он был поэтом или народным трибуном, он нашел бы слова, чтобы рассказать тысячам людей о судьбе Павла Бестужева и Анны и вызвать в ответ великую силу сострадания. Но даже в письме к матери он не нашел слов для этого.
«Да и нужно ли это?» – думал Щедрин. И дед и Бестужев верили в расплату. Расплата пришла. Разве матросы, солдаты, рабочие, миллионы крестьян, бросившиеся в революцию, как в родную стихию, не мстят за деда, за Бестужева, за Тихонова, не бьются за вольную страну, о которой они тосковали сто лет назад?
Письмо Бестужева Щедрин воспринял как завещание, как призыв, как далекий крик из глубины тяжелого и кровавого столетия: «Не забывайте нас, счастливцы!»
Через несколько дней «Смелый» получил приказ идти в Гельсингфорс. Щедрин перешел на миноносец.
Якобсены относились к нему в последние дни, как к близкому родственнику. Марта весь день возилась на кухне и угощала его простыми и вкусными кушаньями. В приготовление их она вкладывала все свое умение. Петер постоянно беседовал с Щедриным о революции, о прошлых временах, о войне, водил на берег и показывал свою старую шлюпку и сети.
Вместе с Мартой и Петером Щедрин был один раз в гостях у доктора. Якобсены хотели показать ему свою дочь. Они уже называли ее племянницей Щедрина и гордились этим новым родством.
В доме у доктора все светилось такой удивительной чистотой, какая бывает только в домах северян. Блистали полы, стены, окна, посуда и даже потолки.
Щедрин ничего не понимал в детях. Если при нем говорили, что ребенок красивый, он соглашался, хотя сам никогда не замечал красивых или безобразных детей. Ему казалось, что все дети, за редкими исключениями, похожи друг на друга. И сейчас он охотно согласился с тем, что девочка очень славная.
Щедрина усадили на диван. Девочка села рядом с ним. Она долго смотрела на золотые нашивки на рукаве Щедрина и осторожно царапала их пальцем.
Щедрин заспорил с доктором о том, будет ли революция в Скандинавских странах. Спор прервал испуганный возглас толстой жены доктора.
Пока Щедрин спорил, девочка успела отпороть у него на рукаве одну нашивку. Порола она очень осторожно, маленькими ножницами.
– Дети любят золото, как сороки, – засмеялся доктор.
Девочка смутилась и спрятала голову в коленях у Марты.
Жена доктора надела черепаховые очки, достала шкатулку с иголками и прикрепила нашивку. Клубки разноцветных ниток лежали в шкатулке, как ежи, – со всех сторон из них торчали иглы.
Перед отъездом Петер пришел к Щедрину и сказал, что он вместе с Мартой просят его взять у них на память не только письмо и книгу, но и портрет Анны. Щедрин был растроган. Они дарили ему то, что в их семье переходило из рода в род как величайшая драгоценность.
Из Гельсингфорса командир миноносца Розен был отозван в Петроград. Полувитя списался с корабля по болезни, и командиром «Смелого» назначили Щедрина.
Дни, недели, месяцы проходили в непрерывном напряжении, митингах, спорах до хрипоты, в ожидании неизбежного взрыва против Временного правительства.
События надвигались стремительно. Июльская демонстрация в Петрограде, уход Ленина в подполье, роспуск Временным правительством Исполнительного комитета моряков Балтийского флота, всеобщая забастовка в Гельсингфорсе. В начале августа немцы прорвали фронт, взяли Ригу, и полки Корнилова двинулись на Петроград.
Часть матросов со «Смелого», под командой Марченко, ушла драться с Корниловым. Миноносец опустел.
Лето стояло безветренное. Оно казалось Щедрину необыкновенно теплым и безмятежным, может быть, потому, что вокруг во флоте и в городе бушевала гроза.
Писем от матери не было.
Щедрин часто спускался в машину и вместе с механиками протирал и смазывал холодные части двигателей. Машины, так же как и люди, словно ждали неотвратимых событий Осень пришла сырая и теплая. Туманы пропитали насквозь желтые листья, и под тяжестью холодной и уже ненужной влаги листья отрывались от веток и падали в траву и на гранитные мостовые.
Иногда Щедрин ходил в город к Акерману. Акерман из-за больной ноги не мог служить на миноносце, и его, как специалиста по связи, назначили комиссаром телеграфной станции. За столом, заваленным телеграфными бланками, Акерман читал Щедрину по длинным бумажным лентам последние, всегда ошеломляющие известия.
Они выходили вместе на улицу, и Акерман затаскивал Щедрина в маленькое кафе, где всегда было пусто, как на острове среди бушующего океана.
Акерман обрывал бледные цветы фуксий, стоявших на столике, и задумчиво говорил:
– Чем это объяснить, Саша? В такие дни особенно начинаешь ценить пустяки. Девушка на тебя только посмотрит, а ты улыбаешься потом весь день, как идиот. Воздух кажется совсем другим. И все другое – и море, и деревья, и даже миноносец.
– Чем же и миноносец другой?
– «Смелый» похож на брошенную дачу. Все прибрали, заколотили и уехали. Остался один сторож. Живет он в одиночестве, топит печи, слушает, как тикают ходики, и ждет, когда приедут новые хозяева.
– Однако ты поэт, Акерман, – сказал Щедрин. – Новые хозяева приедут скоро, ты не волнуйся.
– Да я и не волнуюсь, дурак. Меня не это заботит. Доживем ли мы с тобой до настоящего времени или нет – вот это весьма любопытно. Какую гущу старого придется пробивать и в себе и в окружающих!
Щедрин молча пил крепкий кофе. От сладкого пара слипались ресницы.
– Ты доживешь, я знаю, – сказал Акерман, – а я нет.
– Нога и вообще все у тебя в порядке?
– Что нога! Черт с ней, с ногой. Даже интересно: ходишь хромой, как Байрон. Дело в том, что слишком быстро перегорают нервы. Каждый день – как год. Поди разберись.
– Ты устал. Поезжай в Питер.
– Я за эту усталость отдам свое прежнее лошадиное здоровье, – ответил Акерман. – Чудесное время! Я ведь не жалуюсь. Это так – лирический разговор около облетающих фуксий.
Они вышли. Туман и сумерки смешались над городом в синюю мглу. Сильно пахло паровозным дымом, кофе и гвоздиками из цветочных магазинов: в те дни покупали только гвоздики – символ революции.
Через неделю вечером на палубе над головой Щедрина загремели торопливые шаги. Судя по звуку шагов, человек хромал. Щедрин догадался, что это Акерман, и вышел ему навстречу.
– Саша! – крикнул Акерман, ковыляя по трапу. – Вот камуфлет! Временное правительство свергнуто. Власть перешла к большевикам.
Щедрин перелистал книгу и вынул несколько твердых желтых листков, исписанных гусиным пером. Писавший, видимо, торопился. На странице было много брызг от чернил.
«Анна, – прочел Щедрин, – я совершил великий грех перед тобой, не сказав тебе ни слова о предстоящей дуэли».
От письма шел запах сухой лаванды.
Щедрин читал письмо, хмурился, и руки у него начали дрожать так сильно, что он вынужден был положить письмо на стол, чтобы не выдать своего волнения.
Доктор и Якобсены старались не смотреть на Щедрина. Доктор постукивал пальцами по столу и напевал. Он делал это только в минуты сильного душевного смятения.
…Почти всю ночь Щедрин не спал. Он несколько раз перечитывал письмо Павла Бестужева, перечитал «Эду» Баратынского и подолгу задумывался над местами, отчеркнутыми карандашом. Особенно запомнились Щедрину две строки:
Когда, когда сметешь ты, вьюга,
С лица земли мой легкий след?
Светлая ночь теплилась за окнами. Вода блестела, как фольга. В северной мгле тлел закат. Запах травы и влажных камней проникал в комнату вместе с голосами птиц.
В такие ночи все кажется прекрасным, даже самые обыкновенные человеческие лица. Тем более прекрасным казалось лицо Анны.
«Наши мучения и гибель, – прочел Щедрин строчку из письма, – ударят по сердцам с томительною силой».
«Что сделать, чтобы осуществить это пророчество?» – подумал Щедрин. Если бы он был поэтом или народным трибуном, он нашел бы слова, чтобы рассказать тысячам людей о судьбе Павла Бестужева и Анны и вызвать в ответ великую силу сострадания. Но даже в письме к матери он не нашел слов для этого.
«Да и нужно ли это?» – думал Щедрин. И дед и Бестужев верили в расплату. Расплата пришла. Разве матросы, солдаты, рабочие, миллионы крестьян, бросившиеся в революцию, как в родную стихию, не мстят за деда, за Бестужева, за Тихонова, не бьются за вольную страну, о которой они тосковали сто лет назад?
Письмо Бестужева Щедрин воспринял как завещание, как призыв, как далекий крик из глубины тяжелого и кровавого столетия: «Не забывайте нас, счастливцы!»
Через несколько дней «Смелый» получил приказ идти в Гельсингфорс. Щедрин перешел на миноносец.
Якобсены относились к нему в последние дни, как к близкому родственнику. Марта весь день возилась на кухне и угощала его простыми и вкусными кушаньями. В приготовление их она вкладывала все свое умение. Петер постоянно беседовал с Щедриным о революции, о прошлых временах, о войне, водил на берег и показывал свою старую шлюпку и сети.
Вместе с Мартой и Петером Щедрин был один раз в гостях у доктора. Якобсены хотели показать ему свою дочь. Они уже называли ее племянницей Щедрина и гордились этим новым родством.
В доме у доктора все светилось такой удивительной чистотой, какая бывает только в домах северян. Блистали полы, стены, окна, посуда и даже потолки.
Щедрин ничего не понимал в детях. Если при нем говорили, что ребенок красивый, он соглашался, хотя сам никогда не замечал красивых или безобразных детей. Ему казалось, что все дети, за редкими исключениями, похожи друг на друга. И сейчас он охотно согласился с тем, что девочка очень славная.
Щедрина усадили на диван. Девочка села рядом с ним. Она долго смотрела на золотые нашивки на рукаве Щедрина и осторожно царапала их пальцем.
Щедрин заспорил с доктором о том, будет ли революция в Скандинавских странах. Спор прервал испуганный возглас толстой жены доктора.
Пока Щедрин спорил, девочка успела отпороть у него на рукаве одну нашивку. Порола она очень осторожно, маленькими ножницами.
– Дети любят золото, как сороки, – засмеялся доктор.
Девочка смутилась и спрятала голову в коленях у Марты.
Жена доктора надела черепаховые очки, достала шкатулку с иголками и прикрепила нашивку. Клубки разноцветных ниток лежали в шкатулке, как ежи, – со всех сторон из них торчали иглы.
Перед отъездом Петер пришел к Щедрину и сказал, что он вместе с Мартой просят его взять у них на память не только письмо и книгу, но и портрет Анны. Щедрин был растроган. Они дарили ему то, что в их семье переходило из рода в род как величайшая драгоценность.
Из Гельсингфорса командир миноносца Розен был отозван в Петроград. Полувитя списался с корабля по болезни, и командиром «Смелого» назначили Щедрина.
Дни, недели, месяцы проходили в непрерывном напряжении, митингах, спорах до хрипоты, в ожидании неизбежного взрыва против Временного правительства.
События надвигались стремительно. Июльская демонстрация в Петрограде, уход Ленина в подполье, роспуск Временным правительством Исполнительного комитета моряков Балтийского флота, всеобщая забастовка в Гельсингфорсе. В начале августа немцы прорвали фронт, взяли Ригу, и полки Корнилова двинулись на Петроград.
Часть матросов со «Смелого», под командой Марченко, ушла драться с Корниловым. Миноносец опустел.
Лето стояло безветренное. Оно казалось Щедрину необыкновенно теплым и безмятежным, может быть, потому, что вокруг во флоте и в городе бушевала гроза.
Писем от матери не было.
Щедрин часто спускался в машину и вместе с механиками протирал и смазывал холодные части двигателей. Машины, так же как и люди, словно ждали неотвратимых событий Осень пришла сырая и теплая. Туманы пропитали насквозь желтые листья, и под тяжестью холодной и уже ненужной влаги листья отрывались от веток и падали в траву и на гранитные мостовые.
Иногда Щедрин ходил в город к Акерману. Акерман из-за больной ноги не мог служить на миноносце, и его, как специалиста по связи, назначили комиссаром телеграфной станции. За столом, заваленным телеграфными бланками, Акерман читал Щедрину по длинным бумажным лентам последние, всегда ошеломляющие известия.
Они выходили вместе на улицу, и Акерман затаскивал Щедрина в маленькое кафе, где всегда было пусто, как на острове среди бушующего океана.
Акерман обрывал бледные цветы фуксий, стоявших на столике, и задумчиво говорил:
– Чем это объяснить, Саша? В такие дни особенно начинаешь ценить пустяки. Девушка на тебя только посмотрит, а ты улыбаешься потом весь день, как идиот. Воздух кажется совсем другим. И все другое – и море, и деревья, и даже миноносец.
– Чем же и миноносец другой?
– «Смелый» похож на брошенную дачу. Все прибрали, заколотили и уехали. Остался один сторож. Живет он в одиночестве, топит печи, слушает, как тикают ходики, и ждет, когда приедут новые хозяева.
– Однако ты поэт, Акерман, – сказал Щедрин. – Новые хозяева приедут скоро, ты не волнуйся.
– Да я и не волнуюсь, дурак. Меня не это заботит. Доживем ли мы с тобой до настоящего времени или нет – вот это весьма любопытно. Какую гущу старого придется пробивать и в себе и в окружающих!
Щедрин молча пил крепкий кофе. От сладкого пара слипались ресницы.
– Ты доживешь, я знаю, – сказал Акерман, – а я нет.
– Нога и вообще все у тебя в порядке?
– Что нога! Черт с ней, с ногой. Даже интересно: ходишь хромой, как Байрон. Дело в том, что слишком быстро перегорают нервы. Каждый день – как год. Поди разберись.
– Ты устал. Поезжай в Питер.
– Я за эту усталость отдам свое прежнее лошадиное здоровье, – ответил Акерман. – Чудесное время! Я ведь не жалуюсь. Это так – лирический разговор около облетающих фуксий.
Они вышли. Туман и сумерки смешались над городом в синюю мглу. Сильно пахло паровозным дымом, кофе и гвоздиками из цветочных магазинов: в те дни покупали только гвоздики – символ революции.
Через неделю вечером на палубе над головой Щедрина загремели торопливые шаги. Судя по звуку шагов, человек хромал. Щедрин догадался, что это Акерман, и вышел ему навстречу.
– Саша! – крикнул Акерман, ковыляя по трапу. – Вот камуфлет! Временное правительство свергнуто. Власть перешла к большевикам.