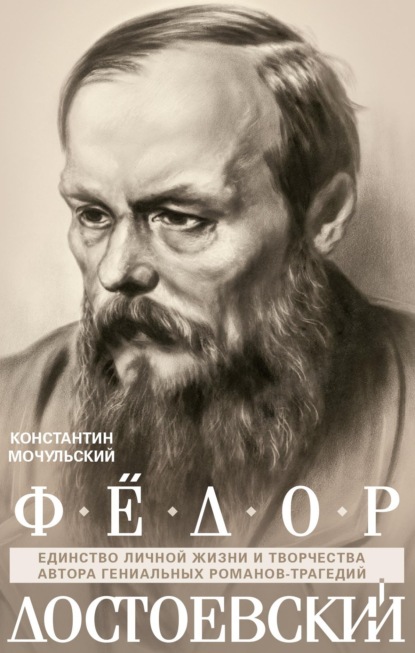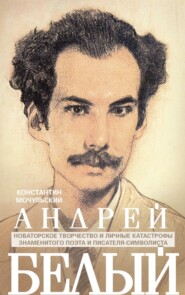По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Федор Достоевский. Единство личной жизни и творчества автора гениальных романов-трагедий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вторая романтическая дружба относится к 1840 г. Герой ее – старший товарищ Достоевского по училищу, Иван Бережецкий. Воспитатель А. Савельев изображает его изнеженным щеголем. «Мне не раз случалось видеть, – пишет он, – и в часы классных занятий, и во время прогулок кондукторов, Ф.М. Достоевского или одного или вдвоем, но не с кем иным, как с кондуктором старшего класса Ив. Бережецким. Часто под предлогом нездоровья оставались они или у столика у кровати, занимаясь чтением или гуляя вдвоем по камерам. К сожалению, как тогда, так и теперь, истинное значение этой дружбы двух молодых людей определить очень трудно… Бережецкого считали за человека состоятельного, он любил щеголять богатыми средствами (носил часы, бриллиантовые кольца, имел деньги) и отличался светским образованием, щеголяя своей одеждою, туалетом и особенно мягкостью в обращении». К.Д. Хлебников в своих «Записках» сообщает: «Помню, как Ф.М. Достоевский и Бережецкий увлекались совместным чтением, если не ошибаюсь, Шиллера. Бывало, читают, читают и вдруг заспорят и затем скоро, скоро пойдут через все наши камеры и спальни, один впереди, как бы убегая, чтобы не слышать возражений другого, что делал обыкновенно Бережецкий, а его преследовал Достоевский, желая досказать ему свои мысли».
В дружбе с Шидловским Достоевский был учеником, подавленным гениальностью своего поэтического друга. В отношениях с франтом Бережецким ему принадлежит активная роль. Он властно внушает светскому юноше величие Дон Карлоса и Маркиза Позы. Там он перевоплощался в Шидловского, здесь превращает Бережецкого в героев Шиллера. Он пишет брату: «Я имел[2 - Все выделения в тексте автора. (Примеч. ред.)] у себя товарища, одно создание, которое так любил я. Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера – ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая с ним Шиллера, я поверял над ним и благородного, пламенного Дон Карлоса и Маркиза Позу и Мортимера. Эта дружба так много принесла мне и горя и наслажденья. Теперь я вечно буду молчать об этом; имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний; они горьки, брат; вот почему я ничего не говорил с тобой о Шиллере, о впечатлениях, им произведенных; мне больно, когда я услышу хоть имя Шиллера».
В письмах к брату ничего не говорится о быте училища, занятиях, преподавателях. Мечтатель не видит унылой действительности, он живет в мире литературы, поэзии – и живет в нем пламенно. Дружба с Бережецким была непрочна, и связанные с ней мечтания о Шиллере скоро стали «горькими». Вероятно, Дон Карлос – Бережецкий разочаровал своего требовательного друга. Товарищи по училищу изображают юношу Достоевского задумчивым и молчаливым. К. Трутовский пишет: «Он был хорошо сложен, коренастый; походка была у него какая-то порывистая, цвет лица какой-то серый, взгляд всегда задумчивый и выражение лица большею частью сосредоточенное. Военная форма совсем не шла как-то к нему. Он держал себя всегда особняком, и мне он представляется почти постоянно ходящим где-нибудь в стороне взад и вперед с вдумчивым выражением… Вид его всегда был серьезный, и я не могу себе представить его смеющимся или очень веселым в кругу товарищей. Не знаю почему, но он у нас в училище носил название Фотия». Воспитатель Савельев так описывает Достоевского в 1841 г.: «Задумчивый, скорее угрюмый, можно сказать, замкнутый, он редко сходился с кем-нибудь из своих товарищей… Любимым местом его занятий была амбразура окна в угловой спальне роты, выходящей на Фонтанку. В этом изолированном от других столиков месте сидел и занимался Ф.М. Достоевский; случалось нередко, что он не замечал ничего, что кругом него делалось; в известные установленные часы товарищи его строились к ужину, проходили по круглой камере в столовую, потом с шумом проходили в рекреационный зал к молитве, снова расходились по камерам. Достоевский только тогда убирал в столик свои книги и тетради, когда проходивший по спальням барабанщик, бивший вечернюю зорю, принуждал его прекратить свои занятия. Бывало, в глубокую ночь, можно было заметить Ф.М. у столика, сидящим за работой. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло».
Молодой литератор, занесенный судьбой в военно-учебное заведение; первые вспышки вдохновения под аккомпанемент маршировки и барабана, – вот образ его духовного одиночества в Инженерном училище.
Юноша дышит воздухом мистического романтизма, религией сердца, мечтой о золотом веке. Границы христианского искусства для него очень широки: они охватывают и Гомера, и Гюго, и Шекспира, и Шиллера, и Гёте. Он пишет брату: «Гомер (баснословный человек, может быть, как Христос, воплощенный Богом и к нам посланный) может быть параллелью только Христу, а не Гёте… Ведь в Илиаде Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни (совершенно в такой же силе, как Христос новому)… Виктор Гюго, как лирик, чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направлением поэзии, – и никто не сравнится с ним в этом, ни Шиллер (сколько ни христианский поэт Шиллер), ни лирик Шекспир, ни Байрон, ни Пушкин. (Только Гомер похож на Гюго)».
Сколько в этом письме ученического благоговения перед «гениями», сколько незрелого восторга и туманного христианства! Достоевский знает о романтическом культе полубога Гомера, повторяет модную идею «организации» человечества, что-то слышал о христианстве Гюго. С не меньшей страстностью он восхваляет классиков Расина и Корнеля. «У Расина нет поэзии? – восклицает он. – У Расина, пламенного, страстного, влюбленного в свои идеалы Расина, у него нет поэзии? И это можно спрашивать? Теперь о Корнеле… Да знаешь ли ты, что он по гигантским характерам, духу романтизма – почти Шекспир. Читал ли ты „Le Cid“? Прочти, жалкий человек, прочти и пади в прах перед Корнелем. Ты оскорбил его». После Корнеля выступает Бальзак как синтез духовного развития всего человечества. «Бальзак велик, – пишет Достоевский. – Его характеры – произведения ума вселенной. Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили борениями своими такую развязку в душе человека». Под «умом вселенной» нетрудно распознать «мировой дух» немецкого идеализма. Увлечение Бальзаком остается у Достоевского на всю жизнь: автор «Евгении Гранде» – один из вечных его спутников. Не менее глубоко влияние Гофмана. Фантастический мир немецкого романтика пленяет юношу с таинственной силой; странными и страшными героями Гофмана он бредит наяву. «У меня есть прожект, – сообщает он брату, – сделаться сумасшедшим. Пусть люди бесятся, лечат, пусть делают умным. Ежели ты читал всего Гофмана, то наверно помнишь характер Альбана. Ужасно видеть человека, у которого во власти непостижное, человека, который не знает, что делать ему, играет игрушкой, которая есть Бог». Так напряжена жизнь Достоевского в литературе; чтение для него – переживание, встреча с писателем – событие. Юноша, не получивший систематического образования, лихорадочно, порывисто усваивает мировую культуру. Мелькают великие имена, сменяются восторги, кипит воображение. Но в этой хаотической смене впечатлений и увлечений постепенно намечается главная тема и отгадывается будущее призвание. В немецкой натурфилософии, в космической поэзии Гёте, в «высоком и прекрасном» Шиллера и в социальных романах Бальзака Достоевский ищет одно – человека и его тайну. Его рано поражает двойственность человеческой природы. В 1838 г. он пишет брату: «Атмосфера души человека состоит из слияния неба с землею; какое же противозаконное дитя человек; закон душевной природы человека нарушен. Мне кажется, что мир наш – чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслью. Мне кажется, мир принял значение отрицательное, и из высокой изящной духовности вышла сатира… Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет!»
Так впервые, в туманной романтической форме предстоит перед ним загадка грехопадения и зла.
А в следующем году он уже знает свое призвание. Цель жизни найдена. «Душа моя недоступна прежним бурным порывам. Все в ней тихо, как в сердце человека, затаившего глубокую тайну; учиться, что значит человек и жизнь – в этом довольно успеваю я. Я в себе уверен. Человек есть тайна. Ее надо разгадать, ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».
Эти пророческие слова принадлежат восемнадцатилетнему юноше.
Жизнь Достоевского в училище становится мучительнее с каждым днем. Он чувствует в себе творческие силы и томится от невозможности их осуществить: «Как грустна бывает жизнь твоя, – жалуется он брату, – когда человек, сознавая в себя силы необъятные, видит, что они истрачены в деятельности ложной и неестественной для природы твоей… в жизни достойной пигмея, а не великана, – ребенка, а не человека».
Эти жалобы повторяются постоянно: «О, брат! милый брат! скорее к пристани, скорее на свободу! Свобода и призвание дело великое. Мне снится и грезится оно опять, как не помню когда-то… как-то расширяется душа, чтобы понять великость жизни».
Михаил Михайлович приезжает в Петербург для сдачи офицерского экзамена. На прощальном вечере у него Достоевский читает отрывки из своих драм: «Мария Стюарт» и «Борис Годунов». От этих первых литературных опытов до нас дошли только заглавия. Влияние Шидловского, сочинявшего драму «Мария Симонова», увлечение Шиллером и Пушкиным и преклонение перед актером Самойловым достаточно объясняют происхождение этих набросков. Они скоро были забыты. Но и впоследствии писатель неоднократно возвращался к плану написать драму. Мечте этой не суждено было осуществиться.
В 1842 г. Достоевский произведен в подпоручики и покидает Инженерный замок; он снимает большую квартиру на Владимирской улице; после смерти отца опекун Карепин, муж сестры Варвары, ежемесячно посылает ему его долю доходов с имения. Вместе с жалованьем это составляет немалую сумму: около 5000 рублей ассигнациями в год. Но денег Достоевскому никогда не хватало; он жил широко; утром ходил на лекции для офицеров, вечера часто проводил в театре. Он увлекался Самойловым, концертами Рубини и Листа, оперой Глинки «Руслан и Людмила». Иногда собирались у него товарищи-офицеры, играли в преферанс и штосс и пили пунш. Младший брат Андрей одно время жил с ним вместе. В своих воспоминаниях он жалуется, что «Федор напускал на себя в отношении к нему высокомерное обращение, чтобы он не зазнавался» и что он не поместил его в пансион Костомарова «из денежных расчетов». Трудно определить, насколько справедливы эти упреки. Сожительство с Андреем, несомненно, тяготило Федора, и они расстались без сожаления: в 1842 г. Андрей поступил в училище гражданских инженеров.
Весной 1843 г. Достоевский сдает окончательные экзамены и на лето уезжает в Ревель к брату Михаилу, у которого он крестит первого ребенка. Его здоровье расшатано; у него землистый цвет лица, хриплый голос и сухой кашель. Михаилу и его жене Эмилии Федоровне приходится позаботиться о его белье и платье. По возвращении в Петербург Достоевский поселяется на одной квартире с доктором Ризенкампфом и работает при чертежной инженерного департамента. Ризенкампф набрасывает его портрет: «Довольно кругленький, светлый блондин с лицом округленным и слегка вздернутым носом. Светло-каштановые волосы были коротко острижены, под высоким лбом и редкими бровями скрывались небольшие, довольно глубоко лежащие серые глаза; щеки были бледные с веснушками; цвет лица болезненный, землистый, губы толстоватые. Он был далеко живее, подвижнее, горячее степенного своего брата… Он любил поэзию страстно, но писал только прозою, потому что на обработку формы не хватало у него терпения; мысли в его голове родились подобно брызгам в водовороте».
Почтенный доктор старается внушить своему сожителю правила хозяйственной экономии, но без успеха. Достоевский живет расточительно и беспорядочно: то он угощает доктора «роскошным» обедом в ресторане Лерха, на Невском, то по месяцам сидит без гроша. Получив от опекуна из Москвы тысячу рублей, он немедленно проигрывает ее на бильярде; случайные партнеры и подозрительные приятели обкрадывают его. Он вступает в разговоры с пациентами Ризенкампфа и снабжает их деньгами; возится с каким-то бродягой, расспрашивая его о жизни подонков столицы; занимает деньги у ростовщиков и тотчас же их проигрывает. Характер Достоевского верно обрисован в воспоминаниях Ризенкампфа: добрый, щедрый, доверчивый и не приспособленный к жизни – таким останется он навсегда. Но беспорядочность быта не мешает писателю серьезно заниматься литературой. Служба тяготит его. В письмах к брату вечная жалоба: «служба надоедает», «служба надоела, как картофель». Наконец в октябре 1844 г. он выходит в отставку. «Насчет моей жизни не беспокойся, – пишет он Михаилу. – Кусок хлеба я найду скоро. Я буду адски работать. Теперь я свободен».
Из инженерного подпоручика Достоевский превращается в профессионального литератора.
Первые шаги на новом пути были трудны. Заработков не было. Долги росли. Достоевский пишет опекуну, Петру Андреевичу Карепину, предлагая за сумму в тысячу рублей серебром отказаться от всех прав на отцовское наследство. Карепин не одобряет его отставки, не может немедленно произвести раздел имения, уговаривает его одуматься. Достоевский негодует и обличает богатого родственника; письма его дышат свирепой иронией. Он драматизирует свое положение, изображая себя больным, нищим и умирающим с голода. В это время он работает над первым романом «Бедные люди» и незаметно перевоплощается в своего героя – полуголодного чиновника Макара Девушкина. Карепин добродушно назидает и журит, Достоевский отвечает злобно и язвительно. Вполне заслуженные упреки опекуна ранят его самолюбие; воображение романиста превращает этого благородного филантропа в буржуа-эксплуататора. Литература и действительность сливаются; будущий автор «Бедных людей» пылает социальным пафосом, и Карепин становится жертвой его обличений.
Вот в каком тоне пишет Достоевский опекуну: «Уведомляю Вас, Петр Андреевич, что имею величайшую надобность в платье. Зимы в Петербурге холодные, а осени весьма сыры и вредны для здоровья. Из чего следует, очевидно, что без платья ходить нельзя, а не то можно протянуть ноги… Так как я не буду иметь квартиры, ибо со старой за неплатеж надо непременно съехать, то мне придется жить на улице или спать под колоннадой Казанского собора. Но т. к. это нездорово, то нужно иметь квартиру. Наконец, нужно есть, потому что не есть нездорово. Я требовал, просил, умолял три года, чтобы мне выделили из имения следуемую мне после родителя часть. Мне не отвечали, мне не хотели отвечать, меня мучали, меня унижали, надо мной насмехались. Я сносил все терпеливо, делал долги, проживался, терпел стыд и горе, терпел болезнь, голод и холод, теперь терпение кончилось и остается употребить все средства, данные мне законами и природой, чтобы меня услышали, и услышали обоими ушами…»
Картина бедственной жизни («стыд, голод и холод») и преследования родных переносятся в биографию Достоевского из романа «Бедные люди». Но это не сознательная фальсификация. Увлеченный своей идеей, молодой автор действительно воображает себя умирающим от голода на улицах Петербурга. Между тем Карепин был совсем не таким свирепым буржуа, каким изображает его Достоевский. Вот что говорит о нем брат писателя, Андрей Михайлович: «Петр Андреевич Карепин был лет сорока с хвостиком и был вдов. Служил управителем канцелярии московского военного генерал-губернатора, аудитором-секретарем дамского комитета по тюрьмам и в комитете о просящих милостыню, управляющим всеми имениями князей Голицыных. Он был добрейший из добрейших людей, не просто добрый, но евангельски добрый человек. Он вышел из народа, достигнув всего своим умом и своей деятельностью».
Богатый пожилой вдовец, женящийся на бедной девушке, появляется в романе «Бедные люди» под именем Быкова.
В рассказе «Елка и свадьба» изображается пятидесятилетний богач Юлиан Мастакович, жених семнадцатилетней девушки; в «Преступлении и наказании» появляется зажиточный и солидный жених Дуни – Лужин. Может быть, в ненависти Раскольникова к жениху сестры есть следы неприязни автора к мужу сестры Вари – Карепину. Конечно, между помещиком-самодуром Быковым и Карепиным психологически столь же мало общего, как и между чиновником Девушкиным и самим Достоевским; писатель воплощает в типе Быкова – Лужина идею власти денег, насилия слабого над сильным. Опекунство Карепина, «обидевшего» бедных наследников, послужило центром, вокруг которого кристаллизовались личные чувства автора и литературные влияния. Быть может, по ассоциации с Карепиным – Быковым и героиня «Бедных людей» получила имя Вареньки (сестру Варвару, вышедшую замуж за Карепина, Достоевский в письмах называет Варенькой).
Литературная работа начинающего писателя в этот период случайна и беспорядочна. Грандиозные планы драм, переводов, издательств быстро исчезают. То он предлагает брату перевести и издать «Матильду» Эжена Сю, то сообщает, что окончил новую драму «Жид Янкель», то пишет, что драму бросил. «Ты говоришь, – прибавляет он, – спасение мое – драма. Да, но постановка требует времени и плата тоже». Михаил по его настоянию переводит «Разбойников» и «Дон Карлоса» Шиллера, и Федор проектирует издание полного перевода сочинений немецкого поэта.
В 1843 г. Бальзак три месяца живет в Петербурге. Журналы его восхваляют; это расцвет его славы в России. Достоевский решает воспользоваться успехом французского романиста и переводит его роман «Евгения Гранде».
В январе 1844 г. он пишет брату: «Насчет Ревеля мы подумаем, nous verrons cela[3 - Там видно будет (фр.).] (выражение papa Grandet)… Нужно тебе знать, что на праздниках я перевел „Евгению Гранде“ Бальзака (чудо! чудо!). Мой перевод бесподобный». Переводчик усилил эмоциональный тон бальзаковского романа, не поскупился на эффектные сравнения и живописные эпитеты. История страданий Евгении превратилась под его пером в повесть «о глубоких и ужасных муках» бедной девушки, образ которой он почему-то сравнивает с древней греческой статуей. Этот первый литературный опыт, сокращенный на треть редактором, был напечатан в «Репертуаре и Пантеоне».
Вступление Достоевского в литературу под знаменем Бальзака – символично. С автором «Человеческой комедии» он познакомился по книжкам «Библиотеки для чтения», в которых был напечатан «Отец Горио». Журналы представляли Бальзака русской публике как певца современного города с его контрастами дворцов и лачуг, как проповедника сострадания к несчастным и обездоленным. Отец Горио – предмет издевательств для жителей убогого пансиона в Латинском квартале и жертва страстной любви к неблагодарным дочерям – особенно поразил молодого писателя. От этого героя Бальзака идет линия «униженных» стариков-чиновников, смешных и жалких «бедных людей» Достоевского. В первом же его романе мы встречаем два варианта этого типа: старика Покровского, робеющего перед ученым сыном, и Девушкина, погибающего от любви к сиротке Вареньке. В «Отце Горио» Бальзак коснулся проблемы сильной личности, которая в творчестве русского романиста должна была занять центральное место. Растиньяк – духовный брат Раскольникова.
Произведения автора «Евгении Гранде» представлялись романтику Достоевскому завершением всего христианского искусства. Разве сам Бальзак не говорил, что его Горио – «Христос отеческой любви», и не сравнивал его страданий со «страстями, пережитыми для спасения мира Спасителем человечества»? Достоевский учится у французского писателя технике романа, изучает его стиль. Его письма этого периода пестрят бальзаковскими выражениями: «c’est du sublime, irrеvocablement, un bomme qui pense ? rien, nous verrons cela («выражение papa Grandet»), assez causе (Vautrin)».
Глава 2
«Бедные люди»
Работа над переводом «Евгении Гранде» помогла Достоевскому найти свой путь. Он отказывается от драматических планов и под впечатлением от бальзаковской повести о несчастной девушке задумывает свою повесть «Бедные люди». В сентябре 1844 г. он сообщает брату: «У меня есть надежда. Я кончаю роман в объеме „Eugеnie Grandet“. Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю, к 14-му я наверное уже и ответ получу за него. Отдал в „Отечественные записки“. Я моей работой доволен. Получу, может быть, рублей 400, вот и все надежды мои».
Осенью этого года Достоевский поселился на одной квартире с товарищем по Инженерному училищу, начинающим писателем Д.В. Григоровичем. Денег у них хватало только на первую половину месяца; остальные две недели они питались булками и ячменным кофе. Прислуги не было, и самовар они ставили сами. «Когда я стал жить с Достоевским, – рассказывает Григорович, – он только что кончил перевод романа Бальзака „Евгения Гранде“. Бальзак был нашим любимым писателем… Достоевский просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он слова не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского; буквы сыпались у него из-под пера точно бисер, точно нарисованные… Как только он переставал писать, в его руках немедленно появлялась книга. Он одно время очень пристрастился к романам Ф. Сулье; особенно восхищали его „Записки демона“. Усиленная работа и упорное сидение дома крайне вредно действовали на его здоровье: они усиливали его болезнь, проявлявшуюся несколько раз еще в юности, в бытность его в училище. Несколько раз во время наших редких прогулок с ним случались припадки. Раз, проходя вместе с ним по Троицкому переулку, мы встретили похоронную процессию. Достоевский быстро отвернулся, хотел вернуться назад, но прежде, чем успели мы отойти несколько шагов, с ним сделался припадок, настолько сильный, что я с помощью прохожих принужден был перенести его в ближайшую молочную лавку; насилу могли привести его в чувство. После таких припадков наступало обыкновенно угнетенное состояние духа, продолжавшееся дня два или три».
Роман был закончен в ноябре 1844 г.; в декабре он подвергается полной переработке; в феврале 1845 г. – вторая переделка. «Кончил я его (роман) совершенно, – сообщает Достоевский брату, – чуть ли еще и в ноябре месяце, но в декабре вздумал его весь переделать; переделал и переписал, но в феврале начал опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать. Около половины марта я был готов и доволен».
Его мучит жажда совершенства. «Я хочу, – заявляет он, – чтобы каждое произведение мое было отчетливо хорошо». При этом он ссылается на Пушкина и Гоголя, Рафаэля и Верне, долго отделывавших свои создания. И это стремление к законченности, эта вечная неудовлетворенность формой преследует писателя всю жизнь. Нужда, заставляющая его работать на заказ, величайшая трагедия его жизни. Нужно покончить с легендой о стилистической небрежности Достоевского. Бесчисленные переделки и обработки, которым он подвергает свои романы, достаточно свидетельствуют о его художественной строгости.
Новая редакция «Бедных людей» его удовлетворяет. «Моим романом, – пишет он, – я серьезно доволен. Это вещь строгая и стройная. Есть, впрочем, ужасные недостатки».
Литературная работа, запутанные дела, призрак нищеты, расшатанное здоровье – таково начало писательской карьеры Достоевского. От успеха романа зависит вся его судьба. «Дело в том, что я все это хочу выкупить романом. Если мое дело не удастся, я, может быть, повешусь». Эти страшные в своем спокойствии слова вводят нас в трагический мир начинающего писателя. Немедленно взята самая высокая нота, поставлен вопрос о жизни и смерти, сразу же incipit tragoedia[4 - Начинается трагедия (лат.).]. Достоевский сознает свое призвание и предчувствует крестный путь. Эпиграфом к его писательскому рождению может служить следующее сообщение его брату: «В „Инвалиде“, в фельетоне, только что прочел о немецких поэтах, умерших от голода, холода и в сумасшедших домах. Их было штук двадцать, а какие имена. Мне до сих пор как-то страшно».
Проходит полтора месяца. Роман переделывается в третий раз. 4 мая он пишет брату: «Я до сей самой поры был чертовски занят. Этот мой роман, от которого я никак не могу отвязаться, задал мне такой работы, что, если бы я знал, так не начинал бы его совсем. Я вздумал его еще раз переправлять и, ей-богу, к лучшему; он чуть ли не вдвое выиграл. Но уж теперь он кончен, и эта переправка была последняя. Я слово дал до него не дотрагиваться».
И снова мрачные предчувствия и мысли о самоубийстве: «Часто я по целым ночам не сплю от мучительных мыслей. Не пристрою романа, так, может быть, и в Неву. Что же делать? Я уже думал обо всем. Я не переживу смерти моей idеe fixe».
Автор одержим своим произведением. За короткой радостью вдохновения следует долгий и мучительный период словесного воплощения. От романа нельзя «отвязаться», он становится неподвижной идеей, связывается с мыслью о смерти. Литература – трагическая судьба Достоевского. Переделки «Бедных людей» говорят о напряженной духовной работе. В течение 1843–1845 гг. в писателе совершается глубокий перелом. Он намекает на него в письме к брату: «Я страшно читаю, и чтение страшно действует на меня. Что-нибудь давно перечитанное прочитываю вновь, и как будто напрягусь новыми силами, вникаю во все, отчетливо понимаю и сам извлекаю умение создавать… Брат, в отношении литературы я не тот, что был тому назад два года. Тогда было ребячество, вздор. Два года изучения много принесли и много унесли».
Кончается романтическая юность Достоевского, эпоха дружбы с поэтом Шидловским и слез восторга над стихами Шиллера; начинается литературная зрелость под знаком волшебника Гоголя. Писатель, еще так недавно мечтавший о средневековых рыцарях и венецианских красавицах, пишет историю жалкого петербургского чиновника Макара Девушкина. В этой смене литературного направления отражаются события, происходящие в глубине сознания; мировоззрение Достоевского медленно изменяется. Можно предположить, что первые редакции «Бедных людей» не удовлетворяли его потому, что не соответствовали больше его новому чувству жизни. Переделывая свой роман, он ощупью искал самого себя. И, наконец полусознательный процесс завершился мгновением ослепительного озарения: выражение для смутных движений души было найдено, родилось новое слово.
До этой минуты Достоевский жил в романтических мечтах; далекие страны и былые времена, экзотика и героизм пленяли его. Он был слеп к действительности, и его влекло все таинственное, фантастическое, необыкновенное: рыцарские замки в романах [Анны] Рэдклиф и Вальтера Скотта, сказки Гофмана, дьявольщина Сулье… И вдруг глаза его открылись, и он понял: нет ничего фантастичнее действительности. Эту минуту он называет своим рождением; оно произошло в фантастическом городе Петербурге; восприемником новорожденного был Гоголь, автор «Невского проспекта». В фельетоне 1861 г. «Петербургские сновидения в стихах и прозе» Достоевский описывает свое «видение на Неве».
«Помню раз, в зимний январский вечер, я спешил с Выборгской стороны к себе домой. Был я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки, в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мглистом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз в 20 градусов… Мерзлый пар валил с усталых лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и словно великаны со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх, по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе… Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне.
Я вздрогнул, и сердце мое как бы облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленно; как будто прозрел во что-то новое, совершенно новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что в эти именно минуты началось мое существование… Скажите, господа, не фантазер я, не мистик я с самого детства? Какое тут происшествие, что случилось? Ничего, ровно ничего, одно ощущение…» До этого мгновения он жил в мечтах, «в воспаленных грезах». После «видения» ему стали сниться другие сны.
«Стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Все это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон-Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и все хохотал! И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история».
Эта забытая страница из фельетона – один из самых совершенных образцов лирики Достоевского. Она тесно связана с Гоголем. В «Невском проспекте» таинственность Петербурга растет с приближением ночи. «Тогда (в сумерки) настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет… Все обман, все мечта, все не то, чем кажется… Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде».
«Совершенно новый мир» открылся Достоевскому: мир призрачный, готовый «искуриться паром», мир, населенный странными лицами – марионетками, пляшущими под хохот демона. Волшебник Гоголь, заколдовавший русскую литературу своим страшным смехом, пробудил Достоевского от романтического сна: он увидел, что действительность – нереальна. Разрыв двух планов бытия стал для него путем творчества. Достоевский учится у Гоголя словесному искусству, но он не порабощен им, как была порабощена вся русская литература 30—40-х гг. Он питает к Гоголю любовь-ненависть и, подражая, борется с ним. Страхов справедливо заметил, что первые произведения Достоевского заключают в себе «смелую и решительную поправку Гоголя».
«Видение на Неве» вплотную подводит нас к замыслу «Бедных людей». История «титулярного сердца, честного и чистого, и девочки оскорбленной и грустной» и есть история Макара Девушкина и Вареньки. Для своей повести Достоевский берет самую избитую тему основанной Гоголем «натуральной школы». В повести «Шинель» Гоголь изображает бедного чиновника, Акакия Акакиевича, тупого, забитого и бессловесного. Ценой невероятных лишений он собирает деньги на покупку новой шинели. Но ее у него крадут, и он умирает от отчаяния. Герой «Бедных людей», Макар Девушкин, тоже бедный и жалкий чиновник; он тоже всю жизнь переписывает бумаги, над ним издеваются сослуживцы, его распекает начальство. Даже наружностью, платьем, сапогами он похож на героя «Шинели». Достоевский усваивает все приемы Гоголя, усиливая и усложняя их, но вместе с тем ученик бунтует против учителя. Его возмущает отношение Гоголя к своему несчастному герою. Разве «Шинель» не есть убийственная насмешка над «бедным чиновником»? Разве Акакий Акакиевич – не ходячий автомат, не тупое существо, высший идеал которого теплая шинель? Достоевский, усвоив технику гоголевской школы, взрывает ее изнутри. Он очеловечивает смешного героя. В 40-х гг. в русском обществе распространялось влияние французского социального романа, с его проповедью гуманности и общественной справедливости (Бальзак, Жорж Санд), и «Бедные люди» ответили новым настроением читателя. Достоевский сделал простое, но гениальное изменение в композиции Гоголя: вместо вещи («Шинель») поставил живое человеческое лицо (Вареньку), и произошло чудесное превращение. Смешная самоотверженность Акакия Акакиевича ради покупки шинели, его аскетизм, опошленный недостойным объектом, обернулись возвышенной и трогательной привязанностью Макара Алексеевича к своей Вареньке. Из мании Башмачкина Достоевский сделал бескорыстную любовь Девушкина. (Имя Башмачкин – вещное, имя Девушкин – личное.)
Борьба с Гоголем происходит в двух планах, жизненном и литературном. Девушкин-чиновник своей жизнью, любовью, подвигом обличает «клевету на человека» гоголевской школы; Девушкин-литератор полемизирует с писателем Гоголем. Бедного чиновника Достоевский превращает в писателя, отделывающего свои письма и «формирующего свой слог».
Макар Алексеевич читает «Шинель» и принимает все на свой счет. Он глубоко оскорблен этим «пашквилем» и жалуется на него Вареньке: «И для чего же такое писать? И для чего оно нужно?.. Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька; это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Нет, я буду жаловаться, Варенька, формально жаловаться». Во всех подробностях быта Акакия Акакиевича Девушкин узнает себя; все детали списаны с натуры, и все же «просто неправдоподобно». В этом – приговор «натуральной школе»; все совсем как настоящее, но не живое, не люди, а «мертвые души». Духу Гоголя Достоевский противопоставляет дух Пушкина. Девушкин читает повесть Пушкина «Станционный смотритель» и пишет Вареньке: «В жизнь мою не случалось мне читать таких славных книжек. Читаешь – словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое оно уже там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно, – вот как! Нет, это натурально! Вы прочтите-ка; это натурально! Это живет».
И в герое «Шинели», и в герое «Станционного смотрителя» Девушкин узнает самого себя. Но от первого отшатывается в ужасе: это – сходство мертвой маски с живым лицом; к другому радостно влечется: «мое собственное сердце».
Гоголевскую тему о бедном чиновнике Достоевский соединяет с фабулой «Станционного смотрителя». Симеон Вырин, как и Макар Девушкин, добрый и простой человек с горячим сердцем. У одного – страстная привязанность к дочери, у другого – самоотверженная любовь к родственнице-сиротке. И в той и другой повести появляется соблазнитель. Вырин хочет спасти свою Дуню, объясняется с соблазнителем, и его «выталкивают на лестницу». Девушкин отправляется к офицеру, оскорбившему Вареньку, и его тоже «выталкивают». Потеряв Дуню, Вырин спивается и умирает; Девушкин, в своем бессилии помочь Вареньке, предается «дебошу»; он едва ли переживет разлуку с нею. Так и у Пушкина, и у Достоевского строится повесть о трагической любви «горячего сердца». Герои ее не средневековые рыцари романтической новеллы, а скромные, незаметные люди – мелкий чиновник или станционный смотритель. Трагедия переносится во внутренний мир. «Бедные люди» – история душевной жизни героя, его любви, страданий и гибели. Искусству психологической повести Достоевский учился у Пушкина.
Молодой автор производит смелый переворот в литературе. Он соединяет жанр Гоголя с жанром Карамзина. Макар Девушкин из «бессловесного чиновника» превращается в сентиментального любовника. Получается эффектный контраст между невзрачной наружностью героя и его чувствительной душой. Пожилой чиновник в затасканном вицмундире и заплатанных сапогах хранит у себя книжку чувствительных стишков и мечтает стать «сочинителем литературы и пиитой». «Ну, вот, например, положим, – пишет он Вареньке, – что вдруг, ни с того, ни с сего, вышла бы в свет книжка под титулом „Стихотворения Макара Девушкина“! Ну, что бы вы тогда сказали, мой ангельчик?» Сам герой подчеркивает комизм этого контраста: «Ну, что тогда б было, когда бы все узнали, что вот у сочинителя Девушкина сапоги в заплатках? Какая-нибудь там контесса-дюшесса узнала бы, ну что бы она-то, душка, сказала?»
В дружбе с Шидловским Достоевский был учеником, подавленным гениальностью своего поэтического друга. В отношениях с франтом Бережецким ему принадлежит активная роль. Он властно внушает светскому юноше величие Дон Карлоса и Маркиза Позы. Там он перевоплощался в Шидловского, здесь превращает Бережецкого в героев Шиллера. Он пишет брату: «Я имел[2 - Все выделения в тексте автора. (Примеч. ред.)] у себя товарища, одно создание, которое так любил я. Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера – ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая с ним Шиллера, я поверял над ним и благородного, пламенного Дон Карлоса и Маркиза Позу и Мортимера. Эта дружба так много принесла мне и горя и наслажденья. Теперь я вечно буду молчать об этом; имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний; они горьки, брат; вот почему я ничего не говорил с тобой о Шиллере, о впечатлениях, им произведенных; мне больно, когда я услышу хоть имя Шиллера».
В письмах к брату ничего не говорится о быте училища, занятиях, преподавателях. Мечтатель не видит унылой действительности, он живет в мире литературы, поэзии – и живет в нем пламенно. Дружба с Бережецким была непрочна, и связанные с ней мечтания о Шиллере скоро стали «горькими». Вероятно, Дон Карлос – Бережецкий разочаровал своего требовательного друга. Товарищи по училищу изображают юношу Достоевского задумчивым и молчаливым. К. Трутовский пишет: «Он был хорошо сложен, коренастый; походка была у него какая-то порывистая, цвет лица какой-то серый, взгляд всегда задумчивый и выражение лица большею частью сосредоточенное. Военная форма совсем не шла как-то к нему. Он держал себя всегда особняком, и мне он представляется почти постоянно ходящим где-нибудь в стороне взад и вперед с вдумчивым выражением… Вид его всегда был серьезный, и я не могу себе представить его смеющимся или очень веселым в кругу товарищей. Не знаю почему, но он у нас в училище носил название Фотия». Воспитатель Савельев так описывает Достоевского в 1841 г.: «Задумчивый, скорее угрюмый, можно сказать, замкнутый, он редко сходился с кем-нибудь из своих товарищей… Любимым местом его занятий была амбразура окна в угловой спальне роты, выходящей на Фонтанку. В этом изолированном от других столиков месте сидел и занимался Ф.М. Достоевский; случалось нередко, что он не замечал ничего, что кругом него делалось; в известные установленные часы товарищи его строились к ужину, проходили по круглой камере в столовую, потом с шумом проходили в рекреационный зал к молитве, снова расходились по камерам. Достоевский только тогда убирал в столик свои книги и тетради, когда проходивший по спальням барабанщик, бивший вечернюю зорю, принуждал его прекратить свои занятия. Бывало, в глубокую ночь, можно было заметить Ф.М. у столика, сидящим за работой. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло».
Молодой литератор, занесенный судьбой в военно-учебное заведение; первые вспышки вдохновения под аккомпанемент маршировки и барабана, – вот образ его духовного одиночества в Инженерном училище.
Юноша дышит воздухом мистического романтизма, религией сердца, мечтой о золотом веке. Границы христианского искусства для него очень широки: они охватывают и Гомера, и Гюго, и Шекспира, и Шиллера, и Гёте. Он пишет брату: «Гомер (баснословный человек, может быть, как Христос, воплощенный Богом и к нам посланный) может быть параллелью только Христу, а не Гёте… Ведь в Илиаде Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни (совершенно в такой же силе, как Христос новому)… Виктор Гюго, как лирик, чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направлением поэзии, – и никто не сравнится с ним в этом, ни Шиллер (сколько ни христианский поэт Шиллер), ни лирик Шекспир, ни Байрон, ни Пушкин. (Только Гомер похож на Гюго)».
Сколько в этом письме ученического благоговения перед «гениями», сколько незрелого восторга и туманного христианства! Достоевский знает о романтическом культе полубога Гомера, повторяет модную идею «организации» человечества, что-то слышал о христианстве Гюго. С не меньшей страстностью он восхваляет классиков Расина и Корнеля. «У Расина нет поэзии? – восклицает он. – У Расина, пламенного, страстного, влюбленного в свои идеалы Расина, у него нет поэзии? И это можно спрашивать? Теперь о Корнеле… Да знаешь ли ты, что он по гигантским характерам, духу романтизма – почти Шекспир. Читал ли ты „Le Cid“? Прочти, жалкий человек, прочти и пади в прах перед Корнелем. Ты оскорбил его». После Корнеля выступает Бальзак как синтез духовного развития всего человечества. «Бальзак велик, – пишет Достоевский. – Его характеры – произведения ума вселенной. Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили борениями своими такую развязку в душе человека». Под «умом вселенной» нетрудно распознать «мировой дух» немецкого идеализма. Увлечение Бальзаком остается у Достоевского на всю жизнь: автор «Евгении Гранде» – один из вечных его спутников. Не менее глубоко влияние Гофмана. Фантастический мир немецкого романтика пленяет юношу с таинственной силой; странными и страшными героями Гофмана он бредит наяву. «У меня есть прожект, – сообщает он брату, – сделаться сумасшедшим. Пусть люди бесятся, лечат, пусть делают умным. Ежели ты читал всего Гофмана, то наверно помнишь характер Альбана. Ужасно видеть человека, у которого во власти непостижное, человека, который не знает, что делать ему, играет игрушкой, которая есть Бог». Так напряжена жизнь Достоевского в литературе; чтение для него – переживание, встреча с писателем – событие. Юноша, не получивший систематического образования, лихорадочно, порывисто усваивает мировую культуру. Мелькают великие имена, сменяются восторги, кипит воображение. Но в этой хаотической смене впечатлений и увлечений постепенно намечается главная тема и отгадывается будущее призвание. В немецкой натурфилософии, в космической поэзии Гёте, в «высоком и прекрасном» Шиллера и в социальных романах Бальзака Достоевский ищет одно – человека и его тайну. Его рано поражает двойственность человеческой природы. В 1838 г. он пишет брату: «Атмосфера души человека состоит из слияния неба с землею; какое же противозаконное дитя человек; закон душевной природы человека нарушен. Мне кажется, что мир наш – чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслью. Мне кажется, мир принял значение отрицательное, и из высокой изящной духовности вышла сатира… Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет!»
Так впервые, в туманной романтической форме предстоит перед ним загадка грехопадения и зла.
А в следующем году он уже знает свое призвание. Цель жизни найдена. «Душа моя недоступна прежним бурным порывам. Все в ней тихо, как в сердце человека, затаившего глубокую тайну; учиться, что значит человек и жизнь – в этом довольно успеваю я. Я в себе уверен. Человек есть тайна. Ее надо разгадать, ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».
Эти пророческие слова принадлежат восемнадцатилетнему юноше.
Жизнь Достоевского в училище становится мучительнее с каждым днем. Он чувствует в себе творческие силы и томится от невозможности их осуществить: «Как грустна бывает жизнь твоя, – жалуется он брату, – когда человек, сознавая в себя силы необъятные, видит, что они истрачены в деятельности ложной и неестественной для природы твоей… в жизни достойной пигмея, а не великана, – ребенка, а не человека».
Эти жалобы повторяются постоянно: «О, брат! милый брат! скорее к пристани, скорее на свободу! Свобода и призвание дело великое. Мне снится и грезится оно опять, как не помню когда-то… как-то расширяется душа, чтобы понять великость жизни».
Михаил Михайлович приезжает в Петербург для сдачи офицерского экзамена. На прощальном вечере у него Достоевский читает отрывки из своих драм: «Мария Стюарт» и «Борис Годунов». От этих первых литературных опытов до нас дошли только заглавия. Влияние Шидловского, сочинявшего драму «Мария Симонова», увлечение Шиллером и Пушкиным и преклонение перед актером Самойловым достаточно объясняют происхождение этих набросков. Они скоро были забыты. Но и впоследствии писатель неоднократно возвращался к плану написать драму. Мечте этой не суждено было осуществиться.
В 1842 г. Достоевский произведен в подпоручики и покидает Инженерный замок; он снимает большую квартиру на Владимирской улице; после смерти отца опекун Карепин, муж сестры Варвары, ежемесячно посылает ему его долю доходов с имения. Вместе с жалованьем это составляет немалую сумму: около 5000 рублей ассигнациями в год. Но денег Достоевскому никогда не хватало; он жил широко; утром ходил на лекции для офицеров, вечера часто проводил в театре. Он увлекался Самойловым, концертами Рубини и Листа, оперой Глинки «Руслан и Людмила». Иногда собирались у него товарищи-офицеры, играли в преферанс и штосс и пили пунш. Младший брат Андрей одно время жил с ним вместе. В своих воспоминаниях он жалуется, что «Федор напускал на себя в отношении к нему высокомерное обращение, чтобы он не зазнавался» и что он не поместил его в пансион Костомарова «из денежных расчетов». Трудно определить, насколько справедливы эти упреки. Сожительство с Андреем, несомненно, тяготило Федора, и они расстались без сожаления: в 1842 г. Андрей поступил в училище гражданских инженеров.
Весной 1843 г. Достоевский сдает окончательные экзамены и на лето уезжает в Ревель к брату Михаилу, у которого он крестит первого ребенка. Его здоровье расшатано; у него землистый цвет лица, хриплый голос и сухой кашель. Михаилу и его жене Эмилии Федоровне приходится позаботиться о его белье и платье. По возвращении в Петербург Достоевский поселяется на одной квартире с доктором Ризенкампфом и работает при чертежной инженерного департамента. Ризенкампф набрасывает его портрет: «Довольно кругленький, светлый блондин с лицом округленным и слегка вздернутым носом. Светло-каштановые волосы были коротко острижены, под высоким лбом и редкими бровями скрывались небольшие, довольно глубоко лежащие серые глаза; щеки были бледные с веснушками; цвет лица болезненный, землистый, губы толстоватые. Он был далеко живее, подвижнее, горячее степенного своего брата… Он любил поэзию страстно, но писал только прозою, потому что на обработку формы не хватало у него терпения; мысли в его голове родились подобно брызгам в водовороте».
Почтенный доктор старается внушить своему сожителю правила хозяйственной экономии, но без успеха. Достоевский живет расточительно и беспорядочно: то он угощает доктора «роскошным» обедом в ресторане Лерха, на Невском, то по месяцам сидит без гроша. Получив от опекуна из Москвы тысячу рублей, он немедленно проигрывает ее на бильярде; случайные партнеры и подозрительные приятели обкрадывают его. Он вступает в разговоры с пациентами Ризенкампфа и снабжает их деньгами; возится с каким-то бродягой, расспрашивая его о жизни подонков столицы; занимает деньги у ростовщиков и тотчас же их проигрывает. Характер Достоевского верно обрисован в воспоминаниях Ризенкампфа: добрый, щедрый, доверчивый и не приспособленный к жизни – таким останется он навсегда. Но беспорядочность быта не мешает писателю серьезно заниматься литературой. Служба тяготит его. В письмах к брату вечная жалоба: «служба надоедает», «служба надоела, как картофель». Наконец в октябре 1844 г. он выходит в отставку. «Насчет моей жизни не беспокойся, – пишет он Михаилу. – Кусок хлеба я найду скоро. Я буду адски работать. Теперь я свободен».
Из инженерного подпоручика Достоевский превращается в профессионального литератора.
Первые шаги на новом пути были трудны. Заработков не было. Долги росли. Достоевский пишет опекуну, Петру Андреевичу Карепину, предлагая за сумму в тысячу рублей серебром отказаться от всех прав на отцовское наследство. Карепин не одобряет его отставки, не может немедленно произвести раздел имения, уговаривает его одуматься. Достоевский негодует и обличает богатого родственника; письма его дышат свирепой иронией. Он драматизирует свое положение, изображая себя больным, нищим и умирающим с голода. В это время он работает над первым романом «Бедные люди» и незаметно перевоплощается в своего героя – полуголодного чиновника Макара Девушкина. Карепин добродушно назидает и журит, Достоевский отвечает злобно и язвительно. Вполне заслуженные упреки опекуна ранят его самолюбие; воображение романиста превращает этого благородного филантропа в буржуа-эксплуататора. Литература и действительность сливаются; будущий автор «Бедных людей» пылает социальным пафосом, и Карепин становится жертвой его обличений.
Вот в каком тоне пишет Достоевский опекуну: «Уведомляю Вас, Петр Андреевич, что имею величайшую надобность в платье. Зимы в Петербурге холодные, а осени весьма сыры и вредны для здоровья. Из чего следует, очевидно, что без платья ходить нельзя, а не то можно протянуть ноги… Так как я не буду иметь квартиры, ибо со старой за неплатеж надо непременно съехать, то мне придется жить на улице или спать под колоннадой Казанского собора. Но т. к. это нездорово, то нужно иметь квартиру. Наконец, нужно есть, потому что не есть нездорово. Я требовал, просил, умолял три года, чтобы мне выделили из имения следуемую мне после родителя часть. Мне не отвечали, мне не хотели отвечать, меня мучали, меня унижали, надо мной насмехались. Я сносил все терпеливо, делал долги, проживался, терпел стыд и горе, терпел болезнь, голод и холод, теперь терпение кончилось и остается употребить все средства, данные мне законами и природой, чтобы меня услышали, и услышали обоими ушами…»
Картина бедственной жизни («стыд, голод и холод») и преследования родных переносятся в биографию Достоевского из романа «Бедные люди». Но это не сознательная фальсификация. Увлеченный своей идеей, молодой автор действительно воображает себя умирающим от голода на улицах Петербурга. Между тем Карепин был совсем не таким свирепым буржуа, каким изображает его Достоевский. Вот что говорит о нем брат писателя, Андрей Михайлович: «Петр Андреевич Карепин был лет сорока с хвостиком и был вдов. Служил управителем канцелярии московского военного генерал-губернатора, аудитором-секретарем дамского комитета по тюрьмам и в комитете о просящих милостыню, управляющим всеми имениями князей Голицыных. Он был добрейший из добрейших людей, не просто добрый, но евангельски добрый человек. Он вышел из народа, достигнув всего своим умом и своей деятельностью».
Богатый пожилой вдовец, женящийся на бедной девушке, появляется в романе «Бедные люди» под именем Быкова.
В рассказе «Елка и свадьба» изображается пятидесятилетний богач Юлиан Мастакович, жених семнадцатилетней девушки; в «Преступлении и наказании» появляется зажиточный и солидный жених Дуни – Лужин. Может быть, в ненависти Раскольникова к жениху сестры есть следы неприязни автора к мужу сестры Вари – Карепину. Конечно, между помещиком-самодуром Быковым и Карепиным психологически столь же мало общего, как и между чиновником Девушкиным и самим Достоевским; писатель воплощает в типе Быкова – Лужина идею власти денег, насилия слабого над сильным. Опекунство Карепина, «обидевшего» бедных наследников, послужило центром, вокруг которого кристаллизовались личные чувства автора и литературные влияния. Быть может, по ассоциации с Карепиным – Быковым и героиня «Бедных людей» получила имя Вареньки (сестру Варвару, вышедшую замуж за Карепина, Достоевский в письмах называет Варенькой).
Литературная работа начинающего писателя в этот период случайна и беспорядочна. Грандиозные планы драм, переводов, издательств быстро исчезают. То он предлагает брату перевести и издать «Матильду» Эжена Сю, то сообщает, что окончил новую драму «Жид Янкель», то пишет, что драму бросил. «Ты говоришь, – прибавляет он, – спасение мое – драма. Да, но постановка требует времени и плата тоже». Михаил по его настоянию переводит «Разбойников» и «Дон Карлоса» Шиллера, и Федор проектирует издание полного перевода сочинений немецкого поэта.
В 1843 г. Бальзак три месяца живет в Петербурге. Журналы его восхваляют; это расцвет его славы в России. Достоевский решает воспользоваться успехом французского романиста и переводит его роман «Евгения Гранде».
В январе 1844 г. он пишет брату: «Насчет Ревеля мы подумаем, nous verrons cela[3 - Там видно будет (фр.).] (выражение papa Grandet)… Нужно тебе знать, что на праздниках я перевел „Евгению Гранде“ Бальзака (чудо! чудо!). Мой перевод бесподобный». Переводчик усилил эмоциональный тон бальзаковского романа, не поскупился на эффектные сравнения и живописные эпитеты. История страданий Евгении превратилась под его пером в повесть «о глубоких и ужасных муках» бедной девушки, образ которой он почему-то сравнивает с древней греческой статуей. Этот первый литературный опыт, сокращенный на треть редактором, был напечатан в «Репертуаре и Пантеоне».
Вступление Достоевского в литературу под знаменем Бальзака – символично. С автором «Человеческой комедии» он познакомился по книжкам «Библиотеки для чтения», в которых был напечатан «Отец Горио». Журналы представляли Бальзака русской публике как певца современного города с его контрастами дворцов и лачуг, как проповедника сострадания к несчастным и обездоленным. Отец Горио – предмет издевательств для жителей убогого пансиона в Латинском квартале и жертва страстной любви к неблагодарным дочерям – особенно поразил молодого писателя. От этого героя Бальзака идет линия «униженных» стариков-чиновников, смешных и жалких «бедных людей» Достоевского. В первом же его романе мы встречаем два варианта этого типа: старика Покровского, робеющего перед ученым сыном, и Девушкина, погибающего от любви к сиротке Вареньке. В «Отце Горио» Бальзак коснулся проблемы сильной личности, которая в творчестве русского романиста должна была занять центральное место. Растиньяк – духовный брат Раскольникова.
Произведения автора «Евгении Гранде» представлялись романтику Достоевскому завершением всего христианского искусства. Разве сам Бальзак не говорил, что его Горио – «Христос отеческой любви», и не сравнивал его страданий со «страстями, пережитыми для спасения мира Спасителем человечества»? Достоевский учится у французского писателя технике романа, изучает его стиль. Его письма этого периода пестрят бальзаковскими выражениями: «c’est du sublime, irrеvocablement, un bomme qui pense ? rien, nous verrons cela («выражение papa Grandet»), assez causе (Vautrin)».
Глава 2
«Бедные люди»
Работа над переводом «Евгении Гранде» помогла Достоевскому найти свой путь. Он отказывается от драматических планов и под впечатлением от бальзаковской повести о несчастной девушке задумывает свою повесть «Бедные люди». В сентябре 1844 г. он сообщает брату: «У меня есть надежда. Я кончаю роман в объеме „Eugеnie Grandet“. Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю, к 14-му я наверное уже и ответ получу за него. Отдал в „Отечественные записки“. Я моей работой доволен. Получу, может быть, рублей 400, вот и все надежды мои».
Осенью этого года Достоевский поселился на одной квартире с товарищем по Инженерному училищу, начинающим писателем Д.В. Григоровичем. Денег у них хватало только на первую половину месяца; остальные две недели они питались булками и ячменным кофе. Прислуги не было, и самовар они ставили сами. «Когда я стал жить с Достоевским, – рассказывает Григорович, – он только что кончил перевод романа Бальзака „Евгения Гранде“. Бальзак был нашим любимым писателем… Достоевский просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он слова не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского; буквы сыпались у него из-под пера точно бисер, точно нарисованные… Как только он переставал писать, в его руках немедленно появлялась книга. Он одно время очень пристрастился к романам Ф. Сулье; особенно восхищали его „Записки демона“. Усиленная работа и упорное сидение дома крайне вредно действовали на его здоровье: они усиливали его болезнь, проявлявшуюся несколько раз еще в юности, в бытность его в училище. Несколько раз во время наших редких прогулок с ним случались припадки. Раз, проходя вместе с ним по Троицкому переулку, мы встретили похоронную процессию. Достоевский быстро отвернулся, хотел вернуться назад, но прежде, чем успели мы отойти несколько шагов, с ним сделался припадок, настолько сильный, что я с помощью прохожих принужден был перенести его в ближайшую молочную лавку; насилу могли привести его в чувство. После таких припадков наступало обыкновенно угнетенное состояние духа, продолжавшееся дня два или три».
Роман был закончен в ноябре 1844 г.; в декабре он подвергается полной переработке; в феврале 1845 г. – вторая переделка. «Кончил я его (роман) совершенно, – сообщает Достоевский брату, – чуть ли еще и в ноябре месяце, но в декабре вздумал его весь переделать; переделал и переписал, но в феврале начал опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать. Около половины марта я был готов и доволен».
Его мучит жажда совершенства. «Я хочу, – заявляет он, – чтобы каждое произведение мое было отчетливо хорошо». При этом он ссылается на Пушкина и Гоголя, Рафаэля и Верне, долго отделывавших свои создания. И это стремление к законченности, эта вечная неудовлетворенность формой преследует писателя всю жизнь. Нужда, заставляющая его работать на заказ, величайшая трагедия его жизни. Нужно покончить с легендой о стилистической небрежности Достоевского. Бесчисленные переделки и обработки, которым он подвергает свои романы, достаточно свидетельствуют о его художественной строгости.
Новая редакция «Бедных людей» его удовлетворяет. «Моим романом, – пишет он, – я серьезно доволен. Это вещь строгая и стройная. Есть, впрочем, ужасные недостатки».
Литературная работа, запутанные дела, призрак нищеты, расшатанное здоровье – таково начало писательской карьеры Достоевского. От успеха романа зависит вся его судьба. «Дело в том, что я все это хочу выкупить романом. Если мое дело не удастся, я, может быть, повешусь». Эти страшные в своем спокойствии слова вводят нас в трагический мир начинающего писателя. Немедленно взята самая высокая нота, поставлен вопрос о жизни и смерти, сразу же incipit tragoedia[4 - Начинается трагедия (лат.).]. Достоевский сознает свое призвание и предчувствует крестный путь. Эпиграфом к его писательскому рождению может служить следующее сообщение его брату: «В „Инвалиде“, в фельетоне, только что прочел о немецких поэтах, умерших от голода, холода и в сумасшедших домах. Их было штук двадцать, а какие имена. Мне до сих пор как-то страшно».
Проходит полтора месяца. Роман переделывается в третий раз. 4 мая он пишет брату: «Я до сей самой поры был чертовски занят. Этот мой роман, от которого я никак не могу отвязаться, задал мне такой работы, что, если бы я знал, так не начинал бы его совсем. Я вздумал его еще раз переправлять и, ей-богу, к лучшему; он чуть ли не вдвое выиграл. Но уж теперь он кончен, и эта переправка была последняя. Я слово дал до него не дотрагиваться».
И снова мрачные предчувствия и мысли о самоубийстве: «Часто я по целым ночам не сплю от мучительных мыслей. Не пристрою романа, так, может быть, и в Неву. Что же делать? Я уже думал обо всем. Я не переживу смерти моей idеe fixe».
Автор одержим своим произведением. За короткой радостью вдохновения следует долгий и мучительный период словесного воплощения. От романа нельзя «отвязаться», он становится неподвижной идеей, связывается с мыслью о смерти. Литература – трагическая судьба Достоевского. Переделки «Бедных людей» говорят о напряженной духовной работе. В течение 1843–1845 гг. в писателе совершается глубокий перелом. Он намекает на него в письме к брату: «Я страшно читаю, и чтение страшно действует на меня. Что-нибудь давно перечитанное прочитываю вновь, и как будто напрягусь новыми силами, вникаю во все, отчетливо понимаю и сам извлекаю умение создавать… Брат, в отношении литературы я не тот, что был тому назад два года. Тогда было ребячество, вздор. Два года изучения много принесли и много унесли».
Кончается романтическая юность Достоевского, эпоха дружбы с поэтом Шидловским и слез восторга над стихами Шиллера; начинается литературная зрелость под знаком волшебника Гоголя. Писатель, еще так недавно мечтавший о средневековых рыцарях и венецианских красавицах, пишет историю жалкого петербургского чиновника Макара Девушкина. В этой смене литературного направления отражаются события, происходящие в глубине сознания; мировоззрение Достоевского медленно изменяется. Можно предположить, что первые редакции «Бедных людей» не удовлетворяли его потому, что не соответствовали больше его новому чувству жизни. Переделывая свой роман, он ощупью искал самого себя. И, наконец полусознательный процесс завершился мгновением ослепительного озарения: выражение для смутных движений души было найдено, родилось новое слово.
До этой минуты Достоевский жил в романтических мечтах; далекие страны и былые времена, экзотика и героизм пленяли его. Он был слеп к действительности, и его влекло все таинственное, фантастическое, необыкновенное: рыцарские замки в романах [Анны] Рэдклиф и Вальтера Скотта, сказки Гофмана, дьявольщина Сулье… И вдруг глаза его открылись, и он понял: нет ничего фантастичнее действительности. Эту минуту он называет своим рождением; оно произошло в фантастическом городе Петербурге; восприемником новорожденного был Гоголь, автор «Невского проспекта». В фельетоне 1861 г. «Петербургские сновидения в стихах и прозе» Достоевский описывает свое «видение на Неве».
«Помню раз, в зимний январский вечер, я спешил с Выборгской стороны к себе домой. Был я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки, в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мглистом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз в 20 градусов… Мерзлый пар валил с усталых лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и словно великаны со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх, по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе… Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне.
Я вздрогнул, и сердце мое как бы облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленно; как будто прозрел во что-то новое, совершенно новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что в эти именно минуты началось мое существование… Скажите, господа, не фантазер я, не мистик я с самого детства? Какое тут происшествие, что случилось? Ничего, ровно ничего, одно ощущение…» До этого мгновения он жил в мечтах, «в воспаленных грезах». После «видения» ему стали сниться другие сны.
«Стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Все это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон-Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и все хохотал! И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история».
Эта забытая страница из фельетона – один из самых совершенных образцов лирики Достоевского. Она тесно связана с Гоголем. В «Невском проспекте» таинственность Петербурга растет с приближением ночи. «Тогда (в сумерки) настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет… Все обман, все мечта, все не то, чем кажется… Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде».
«Совершенно новый мир» открылся Достоевскому: мир призрачный, готовый «искуриться паром», мир, населенный странными лицами – марионетками, пляшущими под хохот демона. Волшебник Гоголь, заколдовавший русскую литературу своим страшным смехом, пробудил Достоевского от романтического сна: он увидел, что действительность – нереальна. Разрыв двух планов бытия стал для него путем творчества. Достоевский учится у Гоголя словесному искусству, но он не порабощен им, как была порабощена вся русская литература 30—40-х гг. Он питает к Гоголю любовь-ненависть и, подражая, борется с ним. Страхов справедливо заметил, что первые произведения Достоевского заключают в себе «смелую и решительную поправку Гоголя».
«Видение на Неве» вплотную подводит нас к замыслу «Бедных людей». История «титулярного сердца, честного и чистого, и девочки оскорбленной и грустной» и есть история Макара Девушкина и Вареньки. Для своей повести Достоевский берет самую избитую тему основанной Гоголем «натуральной школы». В повести «Шинель» Гоголь изображает бедного чиновника, Акакия Акакиевича, тупого, забитого и бессловесного. Ценой невероятных лишений он собирает деньги на покупку новой шинели. Но ее у него крадут, и он умирает от отчаяния. Герой «Бедных людей», Макар Девушкин, тоже бедный и жалкий чиновник; он тоже всю жизнь переписывает бумаги, над ним издеваются сослуживцы, его распекает начальство. Даже наружностью, платьем, сапогами он похож на героя «Шинели». Достоевский усваивает все приемы Гоголя, усиливая и усложняя их, но вместе с тем ученик бунтует против учителя. Его возмущает отношение Гоголя к своему несчастному герою. Разве «Шинель» не есть убийственная насмешка над «бедным чиновником»? Разве Акакий Акакиевич – не ходячий автомат, не тупое существо, высший идеал которого теплая шинель? Достоевский, усвоив технику гоголевской школы, взрывает ее изнутри. Он очеловечивает смешного героя. В 40-х гг. в русском обществе распространялось влияние французского социального романа, с его проповедью гуманности и общественной справедливости (Бальзак, Жорж Санд), и «Бедные люди» ответили новым настроением читателя. Достоевский сделал простое, но гениальное изменение в композиции Гоголя: вместо вещи («Шинель») поставил живое человеческое лицо (Вареньку), и произошло чудесное превращение. Смешная самоотверженность Акакия Акакиевича ради покупки шинели, его аскетизм, опошленный недостойным объектом, обернулись возвышенной и трогательной привязанностью Макара Алексеевича к своей Вареньке. Из мании Башмачкина Достоевский сделал бескорыстную любовь Девушкина. (Имя Башмачкин – вещное, имя Девушкин – личное.)
Борьба с Гоголем происходит в двух планах, жизненном и литературном. Девушкин-чиновник своей жизнью, любовью, подвигом обличает «клевету на человека» гоголевской школы; Девушкин-литератор полемизирует с писателем Гоголем. Бедного чиновника Достоевский превращает в писателя, отделывающего свои письма и «формирующего свой слог».
Макар Алексеевич читает «Шинель» и принимает все на свой счет. Он глубоко оскорблен этим «пашквилем» и жалуется на него Вареньке: «И для чего же такое писать? И для чего оно нужно?.. Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька; это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Нет, я буду жаловаться, Варенька, формально жаловаться». Во всех подробностях быта Акакия Акакиевича Девушкин узнает себя; все детали списаны с натуры, и все же «просто неправдоподобно». В этом – приговор «натуральной школе»; все совсем как настоящее, но не живое, не люди, а «мертвые души». Духу Гоголя Достоевский противопоставляет дух Пушкина. Девушкин читает повесть Пушкина «Станционный смотритель» и пишет Вареньке: «В жизнь мою не случалось мне читать таких славных книжек. Читаешь – словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое оно уже там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно, – вот как! Нет, это натурально! Вы прочтите-ка; это натурально! Это живет».
И в герое «Шинели», и в герое «Станционного смотрителя» Девушкин узнает самого себя. Но от первого отшатывается в ужасе: это – сходство мертвой маски с живым лицом; к другому радостно влечется: «мое собственное сердце».
Гоголевскую тему о бедном чиновнике Достоевский соединяет с фабулой «Станционного смотрителя». Симеон Вырин, как и Макар Девушкин, добрый и простой человек с горячим сердцем. У одного – страстная привязанность к дочери, у другого – самоотверженная любовь к родственнице-сиротке. И в той и другой повести появляется соблазнитель. Вырин хочет спасти свою Дуню, объясняется с соблазнителем, и его «выталкивают на лестницу». Девушкин отправляется к офицеру, оскорбившему Вареньку, и его тоже «выталкивают». Потеряв Дуню, Вырин спивается и умирает; Девушкин, в своем бессилии помочь Вареньке, предается «дебошу»; он едва ли переживет разлуку с нею. Так и у Пушкина, и у Достоевского строится повесть о трагической любви «горячего сердца». Герои ее не средневековые рыцари романтической новеллы, а скромные, незаметные люди – мелкий чиновник или станционный смотритель. Трагедия переносится во внутренний мир. «Бедные люди» – история душевной жизни героя, его любви, страданий и гибели. Искусству психологической повести Достоевский учился у Пушкина.
Молодой автор производит смелый переворот в литературе. Он соединяет жанр Гоголя с жанром Карамзина. Макар Девушкин из «бессловесного чиновника» превращается в сентиментального любовника. Получается эффектный контраст между невзрачной наружностью героя и его чувствительной душой. Пожилой чиновник в затасканном вицмундире и заплатанных сапогах хранит у себя книжку чувствительных стишков и мечтает стать «сочинителем литературы и пиитой». «Ну, вот, например, положим, – пишет он Вареньке, – что вдруг, ни с того, ни с сего, вышла бы в свет книжка под титулом „Стихотворения Макара Девушкина“! Ну, что бы вы тогда сказали, мой ангельчик?» Сам герой подчеркивает комизм этого контраста: «Ну, что тогда б было, когда бы все узнали, что вот у сочинителя Девушкина сапоги в заплатках? Какая-нибудь там контесса-дюшесса узнала бы, ну что бы она-то, душка, сказала?»