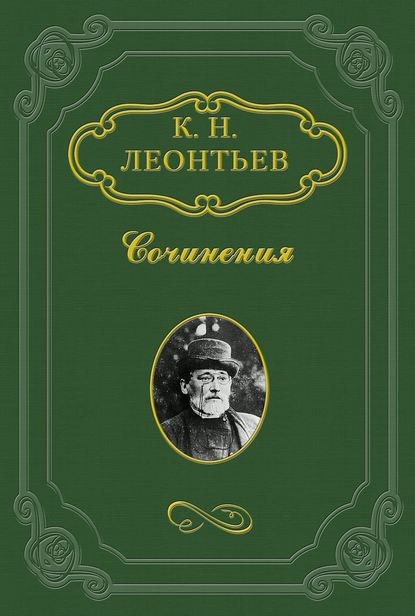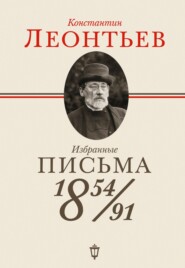По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моя литературная судьба. Автобиография Константина Леонтьева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я не раз говорил, что если французы любят чересчур поднимать жизнь (как в сороковых годах говорили, на каблуки и ходули), то наши уж слишком любят всячески принижать ее. Сама жизнь лучше, чем наша литература. Все у наших писателей более или менее грубо; комизм, отношения к лицам; даже «Война и мир», произведение, которое я сам прочел три раза и считаю прекрасным, испорчено множеством вовсе не нужных грубостей.
И в «Анне Карениной», в которой автор видимо сознательно старался более, чем в прежних своих произведениях, об изяществе – и в выборе лиц, и в самой форме попадаются, однако, эти вовсе ненужные и противные выходки, от которых никто из наших писателей со времен Гоголя избавиться вполне не мог. Я предлагаю вспомнить о том, как цирюльник бреет Облонского; как раздался носовой свист (как это пошло, гадко и, главное, не нужно) мужа Карениной… как граф Вронский надвигал фуражку на свою рано оплешивевшую голову, и как он поливал водой свою здоровую, красную шею. Но в «Анне Карениной» эти выходки все наперечет; их можно простить за дивную художественность и поэзию всего остального. Но чтобы вполне понять, о чем я говорю, стоит только перечесть эти прославленные «Записки Охотника» и для контраста отрывки из писателей, не испорченных Гоголем. Хотя бы «Капитанская дочка» Пушкина, или иностранцев: «Вертера», «Manon Lescaut», «Рене» Шатобриана или прозаический перевод «Чайльд-Гарольда» Амедея Pichot. Или, наконец, нечто более близкое – первые очерки и повести Марка Вовчка. Марко Вовчок – женщина, и она как-то сумела избавиться от общего топорного пошиба нашей мужской литературы. Талант ее был не богат и ее слишком скоро испортили нигилисты, внушившие ей направление; но первые маленькие произведения ее верх совершенства. Вовсе не похожа на нее другая писательница – Кохановская, но у них одно то общее, что они более всех мужчин наших избавились от гоголевщины.
У Кохановской содержание в высшей степени положительное и выражение пылкое, патетическое, восторженное (у Гоголя есть это в «Риме» и в «Тарасе Бульбе»). У М. Вовчка содержание более протестующее, отрицательное, но выражение в высшей степени мягкое, изящное, какое-то бледно-шелковое… душистое…
Я писал о ней статью еще в «Отечественных Записках» 1861-го года и прилагаю здесь эту статью. Так давно уже сформировался мой вкус, так давно уже претит мне раздавивший нас всех мелочной реализм и ложь отрицания, которые даже и у тех писателей, которые скорее хотят быть положительными, чем отрицательными, находят, однако, себе исход хоть в языке, в некоторых пошлых оборотах речи, в постоянных претензиях на юмор и комизм, в грубой обременительности некоторых описаний, просто навороченных, а не написанных (см. описание лошади в «Анне Карениной», «Бежин луг» в «Записках Охотника»).
Вкус мой сформировался, я говорю, давно, но как творец я никак не мог долго даже и приблизиться к тому идеалу, которого жаждал. Ему удовлетворяют до известной степени только мои «Восточные повести». «.Хризо» я недавно, для исправления опечаток, перечел три раза и ничем не возмутился, ничто мне не напомнило в этой повести современную русскую пошлость. Тогда как, перечитывая «Подлипки» (напечатанные мною в 61-м году в одно время с разбором М. Вовчка) и роман «В своем краю», я на каждой странице, краснея, встречаюсь с теми самыми чертами, которые мне так претят у других писателей. «Хризо» написана в 1867-м году; шесть лет жизни и чужбина были нужны для перехода критического сознания к способности самому осуществить хоть приблизительно то, чего бы хотел требовать от себя и других. «La critique est aisee, 1'art est difficile»[23 - Критиковать легко, творить трудно (фр.).].
Около того времени, когда я успокоился немного, занявшись статьей «О Складчине», я получил очень грубое письмо от брата своего Александра Николаевича, в котором он требовал от меня сейчас же 200 руб. сер., а в противном случае грозился ехать в Петербург и отыскать там кредиторов покойного нашего брата Владимира и взять у них доверенность на преследование за эти долги дочери его Марьи Владимировны, которая по завещанию матери моей и после смерти отца своего вступила во владение пополам со мной Кудиновым.
Письмо было наполнено дерзостями и упреками. В упреках этих была и ложь, была отчасти и правда. Брат мой (говорю это перед Богом! спокойно, без раздражения!) просто дурак и подлец; но и разбойник имеет своего рода органическое право ненавидеть судью, который его казнит. А я присвоил себе в прежнее время право всячески карать и казнить его.
Я бы хотел не отвлекаться от главного предмета моего, от истории моих последних литературных неудач в Москве, но о моих отношениях к этому брату необходимо сказать несколько слов, для того чтобы яснее было, с каким множеством препятствий и горестей я должен был разом бороться и вместе с тем (похвалюсь!), как я все их мгновенно забывал, как только мог отдаться хоть по утрам вполне труду отвлеченной мысли или свободной мечте. Давно я уже выучился не давать обстоятельствам вполне подавлять свой ум и воображение, и даже в 71-м году, когда я зимой в отчаянии ехал из Солоник умирать на Афон, я на станциях обдумывал впервые отчетливо свою гипотезу триединого процесса и вторичного упрощения. Остановившись в Зографе, я две недели не выходил из комнаты и писал об этом день и ночь… даже полулежа в постели и чередуя только это занятие с самой горькой, самой искренней и чуть не отходной молитвой, по монашескому указанию и по книжкам… Я по очереди раскрывал то Прудона, то Апостола Павла, то Иоанна Лествичника, то Бокля; Апостола Павла и Лествичника для себя, для души, для того чтобы повиноваться им, чтобы любить их, чтобы подражать им; тех двух буржуа для ума, для сочинения, которое я считал уже посмертным, чтобы ненавидеть их, чтобы бороться с их влиянием, чтобы уклоняться от них насколько возможно, насколько меня допустит философское убеждение.
На Афоне внутреннее состояние мое было ужасно; оно было гораздо хуже московского; я не хотел умирать и не верил, что буду еще жить, я думал, что меня все забыли и сам искал только забыть всех; но я со скрежетом зубов, а не с истинным смирением покорялся этой мысли о забвении мира и смерти… Я не мирился с нею; я думал больше о спасении тела своего, чем о спасении души; и только чтение духовных книг и беседы Иеронима и Макария поднимали меня на те тяжкие, тернистые высоты христианства, на которых человек становится в силах хоть на минуту говорить себе: «чем хуже здесь, тем лучше: так угодно Богу; да будет воля Его…»
Да! внутреннее состояние души моей на Афоне было такое ужасное, какого я еще не испытывал в жизни. Но зато там хоть завтрашний день был обеспечен вещественно; мне не было крайности думать об этом завтрашнем дне иначе, как с духовной точки зрения. Вокруг была поэзия; вся внешняя обстановка жизни и весь внутренний строй ее: природа, обычаи, язык, уставы, взгляды, идеалы, одежды и постройки, самое отсутствие правильных дорог – все было не европейское, все переносило меня в мир восточный, византийский; почти никогда и ничто не напоминало мне там этой буржуазной, прозаической, хамской, подлой Европы (я говорю не про Европу Байрона и Гёте, не Людовика XIV-го и хотя бы Наполеона 1-го, а про Европу последнюю, нынешнюю, Европу железных дорог, банков, представительных камер, одним словом, каррикатурную Европу прогрессивного самообольщения и прозаических мечтаний о всеобщем благе).
Вот что было хорошо на Афоне. Было на чем отвести душу и зрение; это почти то же, что и персидские ковры Губастова; только в огромных размерах. Россия и Москва после долгого отсутствия, напротив того, бросились мне в глаза, прежде всего, теми своими сторонами, которые для меня так тошны и гнусны, зазнавшимися мужиками, которые от прежнего характера своего сохранили только лукавство и пьянство, но утратили ту черту смирения и покорности, которая их так красила и смягчала; разоренными или опустелыми усадьбами, теми усадьбами, из которых вышли Пушкин, Жуковский, Лермонтов и Фет, в которых и прасол Кольцов находил себе оценку и приязнь; железными этими путями, от которых все только дорожает до нестерпимости и на которых видишь перед собой все какие-то самодовольные плоские фигуры… адвокатами, новыми судьями-демагогами, процессом несчастной Митрофании, которой злоупотребления (сознаюсь, ничуть не краснея) гораздо меньше возмущают меня, чем одна либеральная речь Брайта или этого прохвоста Вирхова, который так испугался, когда Бисмарк вызвал его на дуэль… Москва и Россия являлись мне пыльной и тесной редакцией Каткова, полной каких-то невыносимо бесцветных и некрасивых деятелей… и дерзкими коридорными лакеями, которые (как я узнал от моего Георгия) удивлялись и смеялись тому, что я ем постное по средам и пятницам; уже до того и они просветились за это десятилетие благодетельного прогресса!
(Пусть прогрессист Хитров спросит себя по совести, молча, пусть не говорит ни слова, ибо правды в этих случаях он не скажет: – «не хорошо ли было бы патриархально их выдрать на конюшне, снявши с них европейский фрак?»)
Итак, зрелище в России и Москве было хуже, чем на Афоне… Но здоровье было лучше, состояние духа в одно и то же время и бодрее, смелее перед людьми и обстоятельствами, и смиреннее, готовее на все перед Богом. И вот тут видна, как и везде, правда Божия; Он прежде поучил на Афоне, потом развеселил и подкрепил в посольстве и Халках и тогда только отправил меня в скверную русско-европейскую обстановку для борьбы с препятствиями и даже врагами, которых я и не подозревал у себя и которые, однако, оказались. Борьбу уже вовсе свыше наших сил видно Господь не посылает…
И я писал с наслаждением в серо-европейской России и среди внешних невзгод точно так же, как писал с наслаждением среди Афонской поэзии с ужасными язвами в сердце, источающими предсмертный ужас!..
Итак, мой брат Александр.
Когда в 1869 году я был в Петербурге, мать моя, которая чувствовала себя уже очень слабой, спросила меня: «что я думаю о Кудинове». Здесь я, как на исповеди, говорю все по совести и ничего не хочу утаивать, кроме обстоятельств к делу вовсе не относящихся. Я очень был рад наказать его пороки и его глупость и сказал матери: «Напишите все на имя племянницы моей Маши!» Я тогда находил, что поступаю очень умно и справедливо, действуя на ослабевшую мать в этом смысле. Я тогда был очень доволен службою своею и начальством, здоровьем, писал; Катков с первого слова, когда я приезжал к нему на двое суток в Москву, дал мне 800 рублей вперед. Я не скрою, и наружностью своей я тогда был доволен… Восток обожал еще больше, чем теперь (ибо теперь я так тоскую, что не знаю – под силу ли мне было бы жить опять в турецкой провинции без своего общества и друзей)… Тогда мне и в голову не приходило, что я могу скоро выйти в отставку. Стремоухов говорил мне, что князь очень доволен мною; Игнатьев чрезвычайно аккуратно и любезно отвечал мне на все мои письма; Новиков, которого я видел в Петербурге, говорил мне: «Нехорошо Вам долго оставаться по разным этим Янинам, Вам надо поприще пошире и виднее».
Сама бедная мать моя, как ей ни больно было быть в разлуке со мной и с женой моей, которую она любила больше всех невесток своих, – радовалась на мои успехи по службе, и даже литература моя, которую она не любила и которой боялась верным материнским чувством, перестала смущать ее; сочинениям моим из русской жизни она ничуть не сочувствовала; «Хризо» ей понравилось и восточные повести мои она с тех пор читала с тем искренним и вместе равнодушным удовольствием, с которым мы все читаем хорошие произведения чужих нам людей, именно с тем чувством, которое ищет автор в читателе… Я был тогда самоуверен и доволен собой. Я верил в свой разум, в свой поэтический дар и в свои практические способности. И я был прав, сравнительно с другими людьми, взявши в расчет мои обстоятельства, которые были вовсе неблагоприятны сначала и из которых я так ловко тогда вышел. Я не был прав перед Богом, перед церковью, и только… Меня только Иеронимы могут судить по церковному кодексу; а практических ошибок не было тогда ни одной… И если я смирился, то это никак не потому, что я в свой собственный разум стал меньше верить, а вообще в человеческий разум. Я нахожу теперь, что самый глубокий блестящий ум ни к чему не ведет, если нет судьбы свыше. Ум есть только факт, как цветок на траве, как запах хороший… Я не нахожу, чтоб другие были способнее или умнее меня, я нахожу, что Богу угодно было убить меня; я не считаю Бисмарка во всем выше и годнее Наполеона 111-го; я думаю только, что первому пришел черед по воле Божией, и больше ничего… А почему другие в лучшем положении, чем я?.. Это воля Господня… Или какие-нибудь их тайные заслуги, опять-таки перед Богом, а вовсе не умение устроиться, как говорят… Да и что такое устроиться? Я могу, например, завидовать славе Игнатьева (богатству как-то не завидую), но желал ли бы я быть не Леонтьевым, чтобы купить эту славу? Желал ли бы я приобрести ее только одной политической деятельностью и не написать ничего? Конечно нет! Избави Боже!.. Не потому, чтобы я государственную деятельность презирал… Напротив, я ее чту высоко и своей ограниченной консульской деятельностью очень горжусь; не оттого, чтобы я литературу считал выше государственного дела; вовсе нет; но оттого, что именно я, без литературного вдохновения и без литературной славы считаю мою, именно мою, жизнь ошибкой… Где бы она ни текла, при дворе или в деревне, в Царьграде или в Янине, в монастыре или на балах… Я оттого бы не согласился бы купить ценою отречения от моих сочинений, даже столь несовершенных, столь несообразных с моим идеалом, славу и положение самого Игнатьева, оттого, что для меня долго не писать, долго не печатать, долго не слыхать ничего о моих сочинениях есть такое страдание, такое лютое мучение, что я смолоду даже и вообразить себе его не мог и не умел… Это вторая природа… и все остальное в моей жизни было только или необходимостью, или средством для искусства, а не целью само по себе…
Есть нечто бесконечно сильнейшее нашей воли и нашего ума, и это нечто сокрушило мою жизнь, а не мои ошибки…
Я каюсь в грехах моих, в моих проступках противу церкви ежедневно и горько; я с радостью падаю в прах перед учением церкви, даже и тогда, когда оно мне кажется не особенно разумным (Credo quia absurdum); но я не каюсь в житейских ошибках моих и не признаю ни одной такой, которая должна бы неизбежно вести за собой неудачу… таких и не бывает ни у кого…
Мне скажут, что под этим церковным смирением моим скрыта непомерная житейская гордость, такая сатанинская гордость, которую трудно было бы и ожидать от того товарищеского добродушия, уживчивости и мягкости характера, за которые меня многие любят… А я скажу: да! в этих записках она даже и не скрыта – эта гордость, и кто любит меня, пусть любит меня со всеми моими пороками. Пусть любит меня и с этой самоуверенностью! Тем более что я все-таки прав, и тот, кто знает мою прежнюю жизнь, должен согласиться со мной, если не во всем, то во многом. Вот Губастов и соглашается, потому что он больше всех других меня знает.
Итак, в 1869-м году в Петербурге, когда мать моя заговорила со мной о своей духовной, я посоветовач ей отстранить совершенно и Александра Ник., и меня самого и отдать все Кудиново сполна Маше, дочери другого моего брата Владимира (той самой племяннице, которая гащивала у меня в Турции). Я был доволен собой и самоуверен, не без прав на то и не без основания. Исполненный греха и мерзости перед Богом, перед человеческим обществом, я был хороший, способный и даже по-своему искусный в ведении дел человек. Я верил в свой ум и в свое здраво и возвышенно хорошее сердце.
Брата же этого Александра я считал чем-то презренным, забытым, далеким таким предметом, о котором серьезно и говорить не стоит ни с кем, разве только с одной матерью; ибо она, к несчастью, и ему столько же мать, сколько и мне…
С одной стороны, я, пожалуй, был и прав. Ни на ком в жизни так, как на этом брате Александре, я не видал до чего хорошая, добрая, симпатичная натура может стать гадким, низким и жалким характером при вредных влияниях и дурном направлении.
Он был рожден с наилучшей из всех нас душой. Нас было семеро детей у матери, и он смолоду был общий любимец. Мать, я думаю, до последнего часа не знала, кого из двух нас она больше любит: меня или Александра. Младшая сестра, которая воспитывалась дома, любила его несравненно больше всех других братьев; кузина молодая, которая жила в доме лет 20–25 тому назад, боготворила его; приказчик-старик и жена его, наша няня, тоже обожали его. И у меня он тогда был фаворитом из всех моих братьев. Я с детства любил красоту, а он был красивее всех братьев; он был добрее всех; его взгляд был ласков; глаза красивы; манеры ловки; рост и сложение прекрасны. Он был со слугами тогда добр и приветлив. Лицо у него было одно из тех милых полутатарских лиц, которых у нас так много между дворянами, но только прекрасное в своем роде. Матери он тогда был покорен, сильно любил. Он не кончил курса в кадетском корпусе, был исключен за участие в одной шалости и служил бедным офицером в армейском пехотном полку. Однажды (мне тогда было лет 10) он заболел тифозной горячкой во Владимирской губернии, и мать с отчаянием узнала об этом из письма другого офицера, его друга, который из сожаления к нему и к матери (верно этот, тогда еще столь любящий сын часто о ней говорил) известил мать о его болезни. Не помню, почему мать не могла тогда сама к нему ехать; но она была в отчаянии и тотчас же послала за ним в полк своих лошадей со старухой нянькой, которая была очень умна, распорядительна, сама его, как я уже сказал, чрезвычайно сильно любила, больше всех нас. Полковой командир отпустил брата в долгий отпуск, так как няня привезла ему письмо от матери; и он приехал весной с обритой головой и еще слабый, но вне опасности. Он не хотел подъезжать с шумом к дому и пошел по аллее, через сад… «боюсь, чтобы маменька не гневалась…» сказал он сестре, которая случайно встретила его в этой аллее… Он до того уважал тогда мать, что считал себя неправым против нее уже тем, что осмелился заболеть так опасно и может быть по какой-нибудь собственной неосторожности причинил ей столько горя и беспокойства и боялся «не будет ли она гневаться…» Но тут было не до гнева… Все, начиная с матери, увидавши его в живых, были без ума от радости: сестра, тетка, люди, я сам..
Он прогостил у нас долго… Я помню, как он, уезжая, прощался… Все мы были в нашей длинной белой зале; это было зимой (лет 35 тому назад!!!); тройка стояла у крыльца; люди носили вещи… грозная и благородная наша мать ходила задумчиво по зале в бархатной мантилье; у стола плакала горбатая тетушка, сестра отца, которая всех нас нянчила и учила азбуке (только азбуке, бедная… рцы, твердо, глаголь… и с указкой… Боже! Боже! где это все?..). Брат в бедной, ваточной офицерской шинели с крашеным собачьим воротником стоял у притолки прихожей, утирая платком слезы; эти юношеские, чистые слезы катились ручьями по его молодому, смуглому, красивому лицу, на котором чуть-чуть только пробивались черные усики…
Я помню, что садясь в кибитку, он велел мчаться во всю прыть, «чтобы уехать скорее от того места, где было так приятно и весело». Так он сказал. Какие же были эти удивительные веселости, которых память причиняла ему такую боль и вызывала у него слезы? Они были самые невинные и простые. Семья, мать, мы все – вот что было ему так до боли приятно… родная деревня, в которой он играл и рос, в которой он любил всех и где все его любили, это самое Кудиново, из которого я, именно я, а никто другой, изгнал его теперь и к которому он до сих пор привязан, видимо, сердцем… Жить месяцы и годы с полковыми товарищами, как бы они ласковы с ним ни были; в крестьянских избах, на ничтожном нищенском содержании армейского прапорщика; считать за счастье, если есть ваточная шинель с собачьим воротником; нуждаться в жуковом табаке и чае… знать, что любящая, но строгая и справедливая мать негодует на своего любимца за то, что вместо выгодной и почетной инженерной службы он из-за пустой шалости, из вздорного кадетского молодечества должен был выйти в пехотный полк, есть пустые щи и черный хлеб… утомляться научениях, вставая до света… Потом заболеть без родственного женского присмотра, быть на краю гроба, страдать жаждой и, пожалуй, голодом на каком попало солдатском ложе… Я сам все это испытал во время военной службы моей в Крыму и понимаю, каким праздником должно было казаться бедному молодому офицеру возвращение надолго в материнский дом, просторный, убранный со вкусом, опрятный донельзя, теплый, веселый; я понимаю, как весело было ему спать хорошо и долго, есть вкусно и обильно, не думая о завтрашнем дне; вместо гнева суровой матери увидать ее радость… видеть любовь сестры, меньшого брата, тетки, няни…
Я говорю, что сам испытал все это… Но я готов верить, что чувства брата в то время были гораздо глубже и непосредственнее моих… Я в Крым поехал уже ученым и до болезненности размышляющим юношей; я был тогда «Критон, младой мудрец, рожденный в рощах Эпикура». Я в Москве имел уже сам связи с людьми известными, влиятельными, богатыми, с учеными, с литераторами… Я по охоте бросил все это, оставил не комнату, а хорошие комнаты в доме богатых родных Охотниковых, общество молодых девушек, которые говорили по-английски, грассировали и танцевали на лучших московских вечерах. Я бросил все это именно для того, чтобы кинуться головой вниз в жизнь более грубую, более страшную, более тяжкую для тела, но более здоровую и легкую для души и ума… Игра моего воображения внушала мне, что стыдно мне, поэту, когда другие воюют и лечат воюющих, просто жить все этаким вялым pekin, студентом, который садит с книжками… Что надо немножко зверства в жизни порядочного человека… Какая-нибудь слишком честная профессура меня вовсе не пленяла… Я хотел на казацкую лошадь, хотел видеть раненых, убитых людей, сам, может быть, согласился бы быть почти убитым (я говорю – почти, чтобы больше уважать себя после и чтобы иметь право больше нравиться кому следует)… Я сам искал походных тягостей, и когда мне было уже очень трудно (физически, только физически), я тотчас же вспоминал мои московские внутренние язвы, мой несносный и самопожирающий студенческий анализ и благословлял и дождь, который поливал меня в Крыму, и жар, который томил, и сотни мышей, которые съели у меня шинель, и степных жаб, которые ходили по мне, когда я спал в лагере на траве… И лазаретные ужасы, и укрепляющие душу встречи с чужими смелыми людьми, споры, столкновения и ссоры нередко и опасные, как всегда бывает, где много вместе молодых и самолюбивых мужчин. Слишком тяжелый рефлекс сидячей жизни изгнал меня из Москвы; и его же остатки ободряли и восторгали меня в Крыму, среди внешних житейских невзгод. Я думаю, у брата все чувства при возврате на родину были тогда гораздо глубже и чище моих… Он был бедным офицером просто потому, что не мог быть ничем иным; он не искал сам, подобно мне, освежения и здоровья в грубой и тяжкой жизни в глуши, ибо был и без того здрав и свеж и телом, и душою. Он жил без рефлекса и тогда, когда был таким милым, теплым офицерчиком, когда был, что называется «душа», и тогда, когда лет 10–15 позднее стал элегантным самоуверенным фатом полудурного тона в Москве и Калуге, ярмарочным и трактирным львом, обольстителем, игроком и щеголем, плохим родным и сыном почти преступным… Он живет без рефлекса и теперь, когда он стал седым и гадким стариком, с какими-то рубцами сыпей на лице, с какими-то ранами на теле, всегда без места, без денег, иногда полупьяный, всюду презираемый порядочными людьми, но все также самоуверенным нераскаянным, как и прежде…
И то, что было милой простотой и непосредственностью в прежнем добром Саше, стало гадкой и подлой глупостью в изношенном и необразованном холостяке.
notes
Примечания
1
Слуга, собака, честный труженик (неподписанные подстрочные примечания здесь и дальше принадлежат самому К.Н. Леонтьеву или представляют собой перевод с иностранного языка).
2
Проездом через Москву в свою деревню я видел его раза три и получил от него 700 рублей
3
Я удивляюсь, дорогой, как это вы, человек с воображением, как это вы смогли стать очень умеренным и практичным консулом… И ваши политические писания тоже в преизбытке позитивны… Видите ли, я человек практичный… (фр.).
4
Это вполне просто. Это следствие того, что я весьма одарен и обладаю обилием разнообразных ресурсов (фр.).
5
и тогда искал личного знакомства с литераторами еще меньше, чем теперь.
6
Эту любезность Катков сказал мне еще летом. Он в этот день был нездоров, принимал лекарство и, вдобавок, кажется, рассердился на меня за похвалы Герцену. Я сказал: «Надо благодарить Герцена уже за то, что он перестал верить в прогресс и смеялся над ортодоксией революции».
7
Делает хорошую и худую погоду (фр.).
8
Изысканный (фр.).
9
Отеческое отношение (фр.).
10
Помни о смерти (лат.).
И в «Анне Карениной», в которой автор видимо сознательно старался более, чем в прежних своих произведениях, об изяществе – и в выборе лиц, и в самой форме попадаются, однако, эти вовсе ненужные и противные выходки, от которых никто из наших писателей со времен Гоголя избавиться вполне не мог. Я предлагаю вспомнить о том, как цирюльник бреет Облонского; как раздался носовой свист (как это пошло, гадко и, главное, не нужно) мужа Карениной… как граф Вронский надвигал фуражку на свою рано оплешивевшую голову, и как он поливал водой свою здоровую, красную шею. Но в «Анне Карениной» эти выходки все наперечет; их можно простить за дивную художественность и поэзию всего остального. Но чтобы вполне понять, о чем я говорю, стоит только перечесть эти прославленные «Записки Охотника» и для контраста отрывки из писателей, не испорченных Гоголем. Хотя бы «Капитанская дочка» Пушкина, или иностранцев: «Вертера», «Manon Lescaut», «Рене» Шатобриана или прозаический перевод «Чайльд-Гарольда» Амедея Pichot. Или, наконец, нечто более близкое – первые очерки и повести Марка Вовчка. Марко Вовчок – женщина, и она как-то сумела избавиться от общего топорного пошиба нашей мужской литературы. Талант ее был не богат и ее слишком скоро испортили нигилисты, внушившие ей направление; но первые маленькие произведения ее верх совершенства. Вовсе не похожа на нее другая писательница – Кохановская, но у них одно то общее, что они более всех мужчин наших избавились от гоголевщины.
У Кохановской содержание в высшей степени положительное и выражение пылкое, патетическое, восторженное (у Гоголя есть это в «Риме» и в «Тарасе Бульбе»). У М. Вовчка содержание более протестующее, отрицательное, но выражение в высшей степени мягкое, изящное, какое-то бледно-шелковое… душистое…
Я писал о ней статью еще в «Отечественных Записках» 1861-го года и прилагаю здесь эту статью. Так давно уже сформировался мой вкус, так давно уже претит мне раздавивший нас всех мелочной реализм и ложь отрицания, которые даже и у тех писателей, которые скорее хотят быть положительными, чем отрицательными, находят, однако, себе исход хоть в языке, в некоторых пошлых оборотах речи, в постоянных претензиях на юмор и комизм, в грубой обременительности некоторых описаний, просто навороченных, а не написанных (см. описание лошади в «Анне Карениной», «Бежин луг» в «Записках Охотника»).
Вкус мой сформировался, я говорю, давно, но как творец я никак не мог долго даже и приблизиться к тому идеалу, которого жаждал. Ему удовлетворяют до известной степени только мои «Восточные повести». «.Хризо» я недавно, для исправления опечаток, перечел три раза и ничем не возмутился, ничто мне не напомнило в этой повести современную русскую пошлость. Тогда как, перечитывая «Подлипки» (напечатанные мною в 61-м году в одно время с разбором М. Вовчка) и роман «В своем краю», я на каждой странице, краснея, встречаюсь с теми самыми чертами, которые мне так претят у других писателей. «Хризо» написана в 1867-м году; шесть лет жизни и чужбина были нужны для перехода критического сознания к способности самому осуществить хоть приблизительно то, чего бы хотел требовать от себя и других. «La critique est aisee, 1'art est difficile»[23 - Критиковать легко, творить трудно (фр.).].
Около того времени, когда я успокоился немного, занявшись статьей «О Складчине», я получил очень грубое письмо от брата своего Александра Николаевича, в котором он требовал от меня сейчас же 200 руб. сер., а в противном случае грозился ехать в Петербург и отыскать там кредиторов покойного нашего брата Владимира и взять у них доверенность на преследование за эти долги дочери его Марьи Владимировны, которая по завещанию матери моей и после смерти отца своего вступила во владение пополам со мной Кудиновым.
Письмо было наполнено дерзостями и упреками. В упреках этих была и ложь, была отчасти и правда. Брат мой (говорю это перед Богом! спокойно, без раздражения!) просто дурак и подлец; но и разбойник имеет своего рода органическое право ненавидеть судью, который его казнит. А я присвоил себе в прежнее время право всячески карать и казнить его.
Я бы хотел не отвлекаться от главного предмета моего, от истории моих последних литературных неудач в Москве, но о моих отношениях к этому брату необходимо сказать несколько слов, для того чтобы яснее было, с каким множеством препятствий и горестей я должен был разом бороться и вместе с тем (похвалюсь!), как я все их мгновенно забывал, как только мог отдаться хоть по утрам вполне труду отвлеченной мысли или свободной мечте. Давно я уже выучился не давать обстоятельствам вполне подавлять свой ум и воображение, и даже в 71-м году, когда я зимой в отчаянии ехал из Солоник умирать на Афон, я на станциях обдумывал впервые отчетливо свою гипотезу триединого процесса и вторичного упрощения. Остановившись в Зографе, я две недели не выходил из комнаты и писал об этом день и ночь… даже полулежа в постели и чередуя только это занятие с самой горькой, самой искренней и чуть не отходной молитвой, по монашескому указанию и по книжкам… Я по очереди раскрывал то Прудона, то Апостола Павла, то Иоанна Лествичника, то Бокля; Апостола Павла и Лествичника для себя, для души, для того чтобы повиноваться им, чтобы любить их, чтобы подражать им; тех двух буржуа для ума, для сочинения, которое я считал уже посмертным, чтобы ненавидеть их, чтобы бороться с их влиянием, чтобы уклоняться от них насколько возможно, насколько меня допустит философское убеждение.
На Афоне внутреннее состояние мое было ужасно; оно было гораздо хуже московского; я не хотел умирать и не верил, что буду еще жить, я думал, что меня все забыли и сам искал только забыть всех; но я со скрежетом зубов, а не с истинным смирением покорялся этой мысли о забвении мира и смерти… Я не мирился с нею; я думал больше о спасении тела своего, чем о спасении души; и только чтение духовных книг и беседы Иеронима и Макария поднимали меня на те тяжкие, тернистые высоты христианства, на которых человек становится в силах хоть на минуту говорить себе: «чем хуже здесь, тем лучше: так угодно Богу; да будет воля Его…»
Да! внутреннее состояние души моей на Афоне было такое ужасное, какого я еще не испытывал в жизни. Но зато там хоть завтрашний день был обеспечен вещественно; мне не было крайности думать об этом завтрашнем дне иначе, как с духовной точки зрения. Вокруг была поэзия; вся внешняя обстановка жизни и весь внутренний строй ее: природа, обычаи, язык, уставы, взгляды, идеалы, одежды и постройки, самое отсутствие правильных дорог – все было не европейское, все переносило меня в мир восточный, византийский; почти никогда и ничто не напоминало мне там этой буржуазной, прозаической, хамской, подлой Европы (я говорю не про Европу Байрона и Гёте, не Людовика XIV-го и хотя бы Наполеона 1-го, а про Европу последнюю, нынешнюю, Европу железных дорог, банков, представительных камер, одним словом, каррикатурную Европу прогрессивного самообольщения и прозаических мечтаний о всеобщем благе).
Вот что было хорошо на Афоне. Было на чем отвести душу и зрение; это почти то же, что и персидские ковры Губастова; только в огромных размерах. Россия и Москва после долгого отсутствия, напротив того, бросились мне в глаза, прежде всего, теми своими сторонами, которые для меня так тошны и гнусны, зазнавшимися мужиками, которые от прежнего характера своего сохранили только лукавство и пьянство, но утратили ту черту смирения и покорности, которая их так красила и смягчала; разоренными или опустелыми усадьбами, теми усадьбами, из которых вышли Пушкин, Жуковский, Лермонтов и Фет, в которых и прасол Кольцов находил себе оценку и приязнь; железными этими путями, от которых все только дорожает до нестерпимости и на которых видишь перед собой все какие-то самодовольные плоские фигуры… адвокатами, новыми судьями-демагогами, процессом несчастной Митрофании, которой злоупотребления (сознаюсь, ничуть не краснея) гораздо меньше возмущают меня, чем одна либеральная речь Брайта или этого прохвоста Вирхова, который так испугался, когда Бисмарк вызвал его на дуэль… Москва и Россия являлись мне пыльной и тесной редакцией Каткова, полной каких-то невыносимо бесцветных и некрасивых деятелей… и дерзкими коридорными лакеями, которые (как я узнал от моего Георгия) удивлялись и смеялись тому, что я ем постное по средам и пятницам; уже до того и они просветились за это десятилетие благодетельного прогресса!
(Пусть прогрессист Хитров спросит себя по совести, молча, пусть не говорит ни слова, ибо правды в этих случаях он не скажет: – «не хорошо ли было бы патриархально их выдрать на конюшне, снявши с них европейский фрак?»)
Итак, зрелище в России и Москве было хуже, чем на Афоне… Но здоровье было лучше, состояние духа в одно и то же время и бодрее, смелее перед людьми и обстоятельствами, и смиреннее, готовее на все перед Богом. И вот тут видна, как и везде, правда Божия; Он прежде поучил на Афоне, потом развеселил и подкрепил в посольстве и Халках и тогда только отправил меня в скверную русско-европейскую обстановку для борьбы с препятствиями и даже врагами, которых я и не подозревал у себя и которые, однако, оказались. Борьбу уже вовсе свыше наших сил видно Господь не посылает…
И я писал с наслаждением в серо-европейской России и среди внешних невзгод точно так же, как писал с наслаждением среди Афонской поэзии с ужасными язвами в сердце, источающими предсмертный ужас!..
Итак, мой брат Александр.
Когда в 1869 году я был в Петербурге, мать моя, которая чувствовала себя уже очень слабой, спросила меня: «что я думаю о Кудинове». Здесь я, как на исповеди, говорю все по совести и ничего не хочу утаивать, кроме обстоятельств к делу вовсе не относящихся. Я очень был рад наказать его пороки и его глупость и сказал матери: «Напишите все на имя племянницы моей Маши!» Я тогда находил, что поступаю очень умно и справедливо, действуя на ослабевшую мать в этом смысле. Я тогда был очень доволен службою своею и начальством, здоровьем, писал; Катков с первого слова, когда я приезжал к нему на двое суток в Москву, дал мне 800 рублей вперед. Я не скрою, и наружностью своей я тогда был доволен… Восток обожал еще больше, чем теперь (ибо теперь я так тоскую, что не знаю – под силу ли мне было бы жить опять в турецкой провинции без своего общества и друзей)… Тогда мне и в голову не приходило, что я могу скоро выйти в отставку. Стремоухов говорил мне, что князь очень доволен мною; Игнатьев чрезвычайно аккуратно и любезно отвечал мне на все мои письма; Новиков, которого я видел в Петербурге, говорил мне: «Нехорошо Вам долго оставаться по разным этим Янинам, Вам надо поприще пошире и виднее».
Сама бедная мать моя, как ей ни больно было быть в разлуке со мной и с женой моей, которую она любила больше всех невесток своих, – радовалась на мои успехи по службе, и даже литература моя, которую она не любила и которой боялась верным материнским чувством, перестала смущать ее; сочинениям моим из русской жизни она ничуть не сочувствовала; «Хризо» ей понравилось и восточные повести мои она с тех пор читала с тем искренним и вместе равнодушным удовольствием, с которым мы все читаем хорошие произведения чужих нам людей, именно с тем чувством, которое ищет автор в читателе… Я был тогда самоуверен и доволен собой. Я верил в свой разум, в свой поэтический дар и в свои практические способности. И я был прав, сравнительно с другими людьми, взявши в расчет мои обстоятельства, которые были вовсе неблагоприятны сначала и из которых я так ловко тогда вышел. Я не был прав перед Богом, перед церковью, и только… Меня только Иеронимы могут судить по церковному кодексу; а практических ошибок не было тогда ни одной… И если я смирился, то это никак не потому, что я в свой собственный разум стал меньше верить, а вообще в человеческий разум. Я нахожу теперь, что самый глубокий блестящий ум ни к чему не ведет, если нет судьбы свыше. Ум есть только факт, как цветок на траве, как запах хороший… Я не нахожу, чтоб другие были способнее или умнее меня, я нахожу, что Богу угодно было убить меня; я не считаю Бисмарка во всем выше и годнее Наполеона 111-го; я думаю только, что первому пришел черед по воле Божией, и больше ничего… А почему другие в лучшем положении, чем я?.. Это воля Господня… Или какие-нибудь их тайные заслуги, опять-таки перед Богом, а вовсе не умение устроиться, как говорят… Да и что такое устроиться? Я могу, например, завидовать славе Игнатьева (богатству как-то не завидую), но желал ли бы я быть не Леонтьевым, чтобы купить эту славу? Желал ли бы я приобрести ее только одной политической деятельностью и не написать ничего? Конечно нет! Избави Боже!.. Не потому, чтобы я государственную деятельность презирал… Напротив, я ее чту высоко и своей ограниченной консульской деятельностью очень горжусь; не оттого, чтобы я литературу считал выше государственного дела; вовсе нет; но оттого, что именно я, без литературного вдохновения и без литературной славы считаю мою, именно мою, жизнь ошибкой… Где бы она ни текла, при дворе или в деревне, в Царьграде или в Янине, в монастыре или на балах… Я оттого бы не согласился бы купить ценою отречения от моих сочинений, даже столь несовершенных, столь несообразных с моим идеалом, славу и положение самого Игнатьева, оттого, что для меня долго не писать, долго не печатать, долго не слыхать ничего о моих сочинениях есть такое страдание, такое лютое мучение, что я смолоду даже и вообразить себе его не мог и не умел… Это вторая природа… и все остальное в моей жизни было только или необходимостью, или средством для искусства, а не целью само по себе…
Есть нечто бесконечно сильнейшее нашей воли и нашего ума, и это нечто сокрушило мою жизнь, а не мои ошибки…
Я каюсь в грехах моих, в моих проступках противу церкви ежедневно и горько; я с радостью падаю в прах перед учением церкви, даже и тогда, когда оно мне кажется не особенно разумным (Credo quia absurdum); но я не каюсь в житейских ошибках моих и не признаю ни одной такой, которая должна бы неизбежно вести за собой неудачу… таких и не бывает ни у кого…
Мне скажут, что под этим церковным смирением моим скрыта непомерная житейская гордость, такая сатанинская гордость, которую трудно было бы и ожидать от того товарищеского добродушия, уживчивости и мягкости характера, за которые меня многие любят… А я скажу: да! в этих записках она даже и не скрыта – эта гордость, и кто любит меня, пусть любит меня со всеми моими пороками. Пусть любит меня и с этой самоуверенностью! Тем более что я все-таки прав, и тот, кто знает мою прежнюю жизнь, должен согласиться со мной, если не во всем, то во многом. Вот Губастов и соглашается, потому что он больше всех других меня знает.
Итак, в 1869-м году в Петербурге, когда мать моя заговорила со мной о своей духовной, я посоветовач ей отстранить совершенно и Александра Ник., и меня самого и отдать все Кудиново сполна Маше, дочери другого моего брата Владимира (той самой племяннице, которая гащивала у меня в Турции). Я был доволен собой и самоуверен, не без прав на то и не без основания. Исполненный греха и мерзости перед Богом, перед человеческим обществом, я был хороший, способный и даже по-своему искусный в ведении дел человек. Я верил в свой ум и в свое здраво и возвышенно хорошее сердце.
Брата же этого Александра я считал чем-то презренным, забытым, далеким таким предметом, о котором серьезно и говорить не стоит ни с кем, разве только с одной матерью; ибо она, к несчастью, и ему столько же мать, сколько и мне…
С одной стороны, я, пожалуй, был и прав. Ни на ком в жизни так, как на этом брате Александре, я не видал до чего хорошая, добрая, симпатичная натура может стать гадким, низким и жалким характером при вредных влияниях и дурном направлении.
Он был рожден с наилучшей из всех нас душой. Нас было семеро детей у матери, и он смолоду был общий любимец. Мать, я думаю, до последнего часа не знала, кого из двух нас она больше любит: меня или Александра. Младшая сестра, которая воспитывалась дома, любила его несравненно больше всех других братьев; кузина молодая, которая жила в доме лет 20–25 тому назад, боготворила его; приказчик-старик и жена его, наша няня, тоже обожали его. И у меня он тогда был фаворитом из всех моих братьев. Я с детства любил красоту, а он был красивее всех братьев; он был добрее всех; его взгляд был ласков; глаза красивы; манеры ловки; рост и сложение прекрасны. Он был со слугами тогда добр и приветлив. Лицо у него было одно из тех милых полутатарских лиц, которых у нас так много между дворянами, но только прекрасное в своем роде. Матери он тогда был покорен, сильно любил. Он не кончил курса в кадетском корпусе, был исключен за участие в одной шалости и служил бедным офицером в армейском пехотном полку. Однажды (мне тогда было лет 10) он заболел тифозной горячкой во Владимирской губернии, и мать с отчаянием узнала об этом из письма другого офицера, его друга, который из сожаления к нему и к матери (верно этот, тогда еще столь любящий сын часто о ней говорил) известил мать о его болезни. Не помню, почему мать не могла тогда сама к нему ехать; но она была в отчаянии и тотчас же послала за ним в полк своих лошадей со старухой нянькой, которая была очень умна, распорядительна, сама его, как я уже сказал, чрезвычайно сильно любила, больше всех нас. Полковой командир отпустил брата в долгий отпуск, так как няня привезла ему письмо от матери; и он приехал весной с обритой головой и еще слабый, но вне опасности. Он не хотел подъезжать с шумом к дому и пошел по аллее, через сад… «боюсь, чтобы маменька не гневалась…» сказал он сестре, которая случайно встретила его в этой аллее… Он до того уважал тогда мать, что считал себя неправым против нее уже тем, что осмелился заболеть так опасно и может быть по какой-нибудь собственной неосторожности причинил ей столько горя и беспокойства и боялся «не будет ли она гневаться…» Но тут было не до гнева… Все, начиная с матери, увидавши его в живых, были без ума от радости: сестра, тетка, люди, я сам..
Он прогостил у нас долго… Я помню, как он, уезжая, прощался… Все мы были в нашей длинной белой зале; это было зимой (лет 35 тому назад!!!); тройка стояла у крыльца; люди носили вещи… грозная и благородная наша мать ходила задумчиво по зале в бархатной мантилье; у стола плакала горбатая тетушка, сестра отца, которая всех нас нянчила и учила азбуке (только азбуке, бедная… рцы, твердо, глаголь… и с указкой… Боже! Боже! где это все?..). Брат в бедной, ваточной офицерской шинели с крашеным собачьим воротником стоял у притолки прихожей, утирая платком слезы; эти юношеские, чистые слезы катились ручьями по его молодому, смуглому, красивому лицу, на котором чуть-чуть только пробивались черные усики…
Я помню, что садясь в кибитку, он велел мчаться во всю прыть, «чтобы уехать скорее от того места, где было так приятно и весело». Так он сказал. Какие же были эти удивительные веселости, которых память причиняла ему такую боль и вызывала у него слезы? Они были самые невинные и простые. Семья, мать, мы все – вот что было ему так до боли приятно… родная деревня, в которой он играл и рос, в которой он любил всех и где все его любили, это самое Кудиново, из которого я, именно я, а никто другой, изгнал его теперь и к которому он до сих пор привязан, видимо, сердцем… Жить месяцы и годы с полковыми товарищами, как бы они ласковы с ним ни были; в крестьянских избах, на ничтожном нищенском содержании армейского прапорщика; считать за счастье, если есть ваточная шинель с собачьим воротником; нуждаться в жуковом табаке и чае… знать, что любящая, но строгая и справедливая мать негодует на своего любимца за то, что вместо выгодной и почетной инженерной службы он из-за пустой шалости, из вздорного кадетского молодечества должен был выйти в пехотный полк, есть пустые щи и черный хлеб… утомляться научениях, вставая до света… Потом заболеть без родственного женского присмотра, быть на краю гроба, страдать жаждой и, пожалуй, голодом на каком попало солдатском ложе… Я сам все это испытал во время военной службы моей в Крыму и понимаю, каким праздником должно было казаться бедному молодому офицеру возвращение надолго в материнский дом, просторный, убранный со вкусом, опрятный донельзя, теплый, веселый; я понимаю, как весело было ему спать хорошо и долго, есть вкусно и обильно, не думая о завтрашнем дне; вместо гнева суровой матери увидать ее радость… видеть любовь сестры, меньшого брата, тетки, няни…
Я говорю, что сам испытал все это… Но я готов верить, что чувства брата в то время были гораздо глубже и непосредственнее моих… Я в Крым поехал уже ученым и до болезненности размышляющим юношей; я был тогда «Критон, младой мудрец, рожденный в рощах Эпикура». Я в Москве имел уже сам связи с людьми известными, влиятельными, богатыми, с учеными, с литераторами… Я по охоте бросил все это, оставил не комнату, а хорошие комнаты в доме богатых родных Охотниковых, общество молодых девушек, которые говорили по-английски, грассировали и танцевали на лучших московских вечерах. Я бросил все это именно для того, чтобы кинуться головой вниз в жизнь более грубую, более страшную, более тяжкую для тела, но более здоровую и легкую для души и ума… Игра моего воображения внушала мне, что стыдно мне, поэту, когда другие воюют и лечат воюющих, просто жить все этаким вялым pekin, студентом, который садит с книжками… Что надо немножко зверства в жизни порядочного человека… Какая-нибудь слишком честная профессура меня вовсе не пленяла… Я хотел на казацкую лошадь, хотел видеть раненых, убитых людей, сам, может быть, согласился бы быть почти убитым (я говорю – почти, чтобы больше уважать себя после и чтобы иметь право больше нравиться кому следует)… Я сам искал походных тягостей, и когда мне было уже очень трудно (физически, только физически), я тотчас же вспоминал мои московские внутренние язвы, мой несносный и самопожирающий студенческий анализ и благословлял и дождь, который поливал меня в Крыму, и жар, который томил, и сотни мышей, которые съели у меня шинель, и степных жаб, которые ходили по мне, когда я спал в лагере на траве… И лазаретные ужасы, и укрепляющие душу встречи с чужими смелыми людьми, споры, столкновения и ссоры нередко и опасные, как всегда бывает, где много вместе молодых и самолюбивых мужчин. Слишком тяжелый рефлекс сидячей жизни изгнал меня из Москвы; и его же остатки ободряли и восторгали меня в Крыму, среди внешних житейских невзгод. Я думаю, у брата все чувства при возврате на родину были тогда гораздо глубже и чище моих… Он был бедным офицером просто потому, что не мог быть ничем иным; он не искал сам, подобно мне, освежения и здоровья в грубой и тяжкой жизни в глуши, ибо был и без того здрав и свеж и телом, и душою. Он жил без рефлекса и тогда, когда был таким милым, теплым офицерчиком, когда был, что называется «душа», и тогда, когда лет 10–15 позднее стал элегантным самоуверенным фатом полудурного тона в Москве и Калуге, ярмарочным и трактирным львом, обольстителем, игроком и щеголем, плохим родным и сыном почти преступным… Он живет без рефлекса и теперь, когда он стал седым и гадким стариком, с какими-то рубцами сыпей на лице, с какими-то ранами на теле, всегда без места, без денег, иногда полупьяный, всюду презираемый порядочными людьми, но все также самоуверенным нераскаянным, как и прежде…
И то, что было милой простотой и непосредственностью в прежнем добром Саше, стало гадкой и подлой глупостью в изношенном и необразованном холостяке.
notes
Примечания
1
Слуга, собака, честный труженик (неподписанные подстрочные примечания здесь и дальше принадлежат самому К.Н. Леонтьеву или представляют собой перевод с иностранного языка).
2
Проездом через Москву в свою деревню я видел его раза три и получил от него 700 рублей
3
Я удивляюсь, дорогой, как это вы, человек с воображением, как это вы смогли стать очень умеренным и практичным консулом… И ваши политические писания тоже в преизбытке позитивны… Видите ли, я человек практичный… (фр.).
4
Это вполне просто. Это следствие того, что я весьма одарен и обладаю обилием разнообразных ресурсов (фр.).
5
и тогда искал личного знакомства с литераторами еще меньше, чем теперь.
6
Эту любезность Катков сказал мне еще летом. Он в этот день был нездоров, принимал лекарство и, вдобавок, кажется, рассердился на меня за похвалы Герцену. Я сказал: «Надо благодарить Герцена уже за то, что он перестал верить в прогресс и смеялся над ортодоксией революции».
7
Делает хорошую и худую погоду (фр.).
8
Изысканный (фр.).
9
Отеческое отношение (фр.).
10
Помни о смерти (лат.).