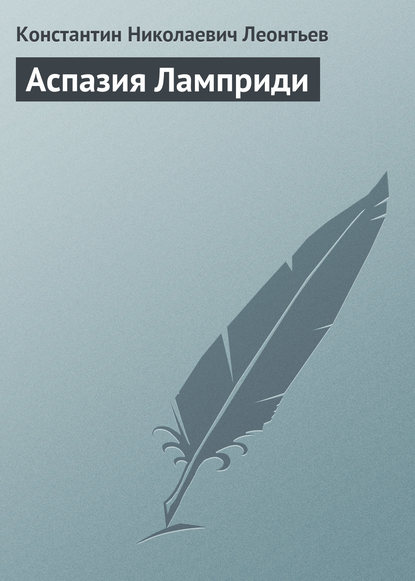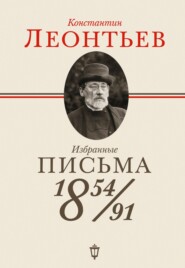По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аспазия Ламприди
Год написания книги
1871
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Подите измените взгляд наших простых людей, – воскликнул доктор.
Разговор этот скоро прекратился, однако, потому что доктор предложил Алкивиаду свести его в Порту и представить мутесарифу. Он говорил, что это будет одинаково полезно для них обоих. Посещение это, в котором Алкивиад должен стараться быть почтительным и понравиться паше, произведет хорошее впечатление. Оно будет значить, что человек и не скрывается, и уважает местную власть.
Алкивиад согласился охотно на это предложение, и доктор послал слугу своего к паше спросить: «в котором часу угодно будет его превосходительству принять их».
Слуга возвратился скоро и сказал:
– Когда вам угодно: хоть сейчас же!
Доктор и Алкивиад собрались идти. Желая угодить мутесарифу, Алкивиад спросил: не лучше ли надеть фрак? Но доктор осмеял его, утверждая, что паша человек старинный, фраком его не пленишь, и что длинное пальто, которое было на Алкивиаде, понравится ему гораздо более, как одежда, дающая вес и солидность.
Они пошли.
Мутесариф был родом из дальнего Берата, из большого албанского очага. Доктор предупредил Алкивиада, что он встает с дивана только для других пашей, для консулов и для духовных сановников: для архиерея, для кади или для еврейского хахана. И потому молодой грек без звания и положения в стране оскорбляться этою гордостью не должен.
Изет-паша точно не встал с дивана, но принял их довольно приветливо и, ударив в ладоши, на дурном греческом языке приказал принести им папирос и кофе.
– Надолго ли в наши страны? – спросил он Алкивиада.
Алкивиад сказал, что и сам не знает, что он желает только повидаться с родными… Мутесариф похвалил его за это; похвалил его рапезских родных, особенно дядю, старика Ламприди.
– Почтенный человек! – сказал он. – Старинного, большого дома! Падишах его недавно капуджи-баши сделал! И вся семья его почтенная, честная и хорошая. Старинная семья!
Но этот разговор приостановился, потому что паше подали телеграмму на турецком языке.
– Эй, морэ?, – закричал он сердито, – где мои очки?
Слуга надел ему очки.
Изет-паша долго смотрел на телеграмму, качая головой, и наконец воскликнул:
– Скажите! не четвероногое этот телеграфчи? Так мерзко пишет! Позовите кетиба![13 - Кетиб (по-турецки) писец.]
Молодой кетиб вошел в модной короткой жакетке и феске и почтительно встал перед пашой.
Паша сурово приказал ему прочесть телеграмму про себя. «Разобрал?» – спросил он.
Писарь сказал, что разобрал. «Дай мне». Опять надел очки, опять смотрел угрюмо и еще раз осыпал проклятиями телеграфчи.
– Что ж он пишет?
– Пишет, – сказал молодой писец, – что из Эллады опять перешел границу разбойник Салаяни, как видно, от преследования греческих войск.
– Хорошо! они преследуют, а мы убьем его! – сказал паша и потом, снова обращаясь к писцу, спросил у него: – Какая это на тебе одежда?
– Одежда моды, – смиренно кланяясь, отвечал писец.
– Одежда моды? – грозно воскликнул Изет-паша. – И ты смеешь являться предо мной в этой обезьяньей одежде? Разве не имеешь ты низамского сюртука, который назначен для службы? Европа, франки свели вас с ума!
– Я к вали-паше так ходил, паша-эффенди, извините меня! – дрожа оправдывался писец.
– Вали-паша не выгнал тебя по великой доброте своей, а не по закону. Ты меймур[14 - Меймур, меймурлик (по-турецки) чиновник, чиновничество.] и должен знать и меймурлик свой. Иди вон!..
Когда писец, смущенный и растерянный, оставил комнату, Изет-паша обратился к гостям своим и сказал им:
– Это они считают политичностью и образованием. Эта мода – гибель для всех нас.
– Вы говорите истинную правду, паша-эффенди, – воскликнул доктор. – Мода всех нас, восточных людей, сводит с ума, и мы от Европы принимаем лишь одно дурное, разврат и роскошь!..
С этими словами доктор хотел встать и проститься, но Изет-паша удержал их, говоря, что дел спешных теперь нет и он рад побеседовать. Он велел подать еще кофе и сигары, себе спросил чубук и повеселел.
Он много расспрашивал Алкивиада про Афины и Грецию; жаловался на разбои в обеих пограничных странах и сказал, наконец, нечто такое, что вызвало со стороны Алкивиада немного живой ответ.
– У вас держится разбой, – сказал паша. – Когда бы мы жили всегда в согласии и дружбе, как добрые соседи, так этому худу давно бы положили конец…
– Ваше превосходительство, извините меня, – сухо возразил Алкивиад, – если я не соглашусь с этим. Правительство наше конституционное и по этому одному иногда не может так легко и скоро наносить удары беспорядку, как могло бы правительство самодержавное, как ваше; если бы… обстоятельства, которых я не знаю и не сужу, не противились бы этому.
– Что он говорит? – спросил Изет-паша у доктора, – он говорит уж слишком по-эллински, и я таких высоких слов не понимаю.
– Он надеется, – сказал доктор по-албански, – что такое могущественное, самодержавное правительство, как правительство султана, скорее эллинского достигнет этой цели, и не хвалит конституцию.
Паша подозрительно поглядел на доктора и сказал:
– Это правда. Это он хорошо говорит. Я старинного эллинского языка не знаю. Но люди, которые знают его, хвалят и говорят, что в нем много премудрости и сладости.
Доктор перевел полуалбанскую, полугреческую, полутурецкую речь паши своему спутнику, и они простились с пашой.
Паша сказал Алкивиаду, чтоб он не уезжал в Рапезу, не простившись с ним, что он хочет еще поговорить с ним и дать о нем похвальное письмо рапезскому каймакаму, «чтобы тот на него хорошо смотрел».
VII
Алкивиад на другой день рано уехал верхом взглянуть на развалины Никополя.
Доктор спешил с утра к больным и сокрушался, что не мог сопутствовать ему. Сначала Алкивиад пожалел об этом, но потом утешился. Мечтать и думать было приятнее одному на зеленой равнине, где между морем и заливом стояли развалины.
В стране, которую посетил теперь Алкивиад, каждый шаг многозначителен для грека. Куда ни обращался его взгляд, все пробуждало здесь великие воспоминания. Мыс Акциум, где бились Антоний и Октавий Август, был недалеко. С горестью вспомнил Алкивиад о том, что эти грозные римляне были учениками древних греков и что орлы римские разносили когда-то греческий ум и греческий вкус во все края света. Почти содрогаясь от гордости и горя, вспомнил он один лишь случай из жизни греко-римского Mipa. Он вспомнил, как гонец принес парфянскому царю голову Красса, разбитого Суреной, и застал своего царя вместе с царем армянским за ужином. Оба царя любовались на актеров, которые представляли в эту минуту трагедию Эврипида. Гонец вошел. Раздались вопли торжества. Актеры умолкли. И голова старого римского полководца пала к ногам восточных царей.
В диких горах Армении цари наслаждались тогда Эврипидом! А теперь?..
Не в Акарнании, как пророчил ему Астрапидес, а здесь предстала ему тень Чайльд-Гарольда.
«О, прекрасная Греция! плачевный обломок древней славы! Тебя нет, и, однако, ты вечно бессмертна!
Кто будет ныне вождем твоих сынов, рассеянных по лицу земли? Кто изменит привычки столь долгого рабства?
Сердце тоскует по родине, когда нежные узы соединяют его с родительским кровом, сердце живет счастливо у домашнего очага… Но вы, одинокие странники, посетите Грецию и бросьте взгляд на страну столь же грустную, как и вы сами. Греция не внушит вам веселых мыслей!
Посетите эту священную страну, эти волшебные пустыни! Но щадите эти обломки; пусть рука ваша чтит этот край, и без того ограбленный многими!»