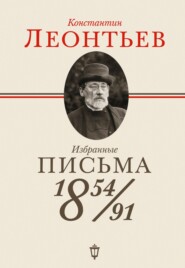По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Польская эмиграция на нижнем Дунае
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Эта бедная толстая и грязная женщина ничуть мне не нравилась; но я понимал, что именно поэтому-то надо бы пожалеть ее…
– Простите его, он был пьян…
– Это не оправдание, – отвечал я. – И вещи испорченной он мне не возвратит…
На это старая полька возразила мне неожиданно приятною вестью:
– Вы простите ему только дерзость, г. консул, – сказала она, – а вещь он поправит. Он хороший токарь и костяные столбики эти сделает точь-в-точь как прежние.
Я не хотел ей верить, так мне было приятно это слышать.
Но поверить было нужно старухе: я отдал ей сломанную вешалку и сказал:
– Вот вы мать, и плачете, а знаете ли, что у меня тоже есть мать, и она мне эту штучку подарила на память… Я велю выпустить вашего сына из тюрьмы на одни сутки; и если колонки через сутки не будут готовы, то никакой от меня ему больше пощады не ждите.
Кухарка ушла, а на следующее утро возвратилась вместе с сыном, который принес мою драгоценность, прекрасно и точь-в-точь действительно реставрированную, и непременно хотел сам меня видеть и «лично» передо мною покаяться. Я, так и быть, велел ему войти.
Радость при виде «костяных колонок», до неузнаваемости схожих с прежними, смягчила мне сердце.
Этот «пролетарий» был гораздо красивее Домбровского, виднее его, приятнее, и в выражении его лица было в одно и то же время и больше веселости, и больше энергии, и больше доброты. Он мне понравился.
Извинился он проще Домбровского, без фраз «интеллигентного» стиля, и я отпустил его с миром, сказавши, впрочем, что это мое последнее снисхождение.
Мать почти в ноги упала мне и хотела поцеловать мою руку.
Все это происходило в 1868 году. В 1869-м меня назначили консулом в Янину, а в 1871-м, весною, перевели в Салоники. Я проехал верхом из Эпира через всю плодородную Фессалию и через южную часть приморской Македонии, и в апреле месяце подъезжал к Салоникам, с небольшою свитою и вьюками, по шоссе с северной стороны. Шоссе идет между дачами, небольшими садами и какими-то домиками.
Мы ехали шагом. Турецкие жандармы впереди и за нами. Гляжу налево – у одной ограды все столики и стулья; за оградою домик белый, палисадник, вывеска… по всему прелестная кофейня. У одного из столов стоит белокурый мужчина, высокого роста, по-европейски одетый. Стоит и глядит внимательно на наш верховой отряд.
Это был тот тульчинский токарь… Он узнал меня, лицо его вдруг изобразило радость, он начал махать шляпою и кричать по-русски:
– Здраствуйте, здраствуйте, г. Леонтьев… Здраствуйте!..
И потом кинулся со всех ног бежать по шоссе к городским воротам впереди нас. Я не мог понять, зачем это он бежит и куда; но это скоро объяснилось.
Немного погодя мы увидали всадника на вороной лошади, в круглой бараньей шапке, всадник мчался к нам навстречу, и когда он, вдруг осадивши лошадь, стал передо мною, «как лист перед травою», я узнал, что это был болгарин Нушо, курьер нашего консульства в Салониках. Мы проехали еще немного, все приближаясь к воротам крепостной стены, и увидели, что навстречу нам идет пешком бородатый мужчина, средних лет, с тростью и в форменной фуражке. Это был одесский уроженец г. Дершво, драгоман консульства.
Всех их поднял на ноги мой тульчинский эмигрант. Он прибежал в консульство и кричал с восторгом:
– Едет консул! Наш консул, наш, тульчинский!..
Взял он на себя весь этот труд бескорыстно и ни за каким награждением или пособием никогда ко мне с тех пор не являлся. Мы даже никогда и не встречались с ним после этого….
Фамилию этого молодого поляка я забыл, но красивая вешалка от Дарзанса и теперь мне служит, и все для тех же материнских часов. И вот какая судьба: когда мне случается, при взгляде на эту тридцать лет тому назад купленную вещь вспомнить или мою суровую и любимую мать, или молодую, богатую и смазливую тетку (которую я чаще всего люблю представлять себе на балу Дворянского собрания, в белом шелковом платье, с пунцовым бархатным убором на черных волосах)… Когда мне, говорю я, случается вспоминать об этих двух столь близких мне женщинах, я, против воли, всегда вспоминаю и о нем, о тульчинском «токаре», об этом сыне плачущей, бедной и неопрятной полячки!..
И вспоминаю я о нем всегда с каким-то добрым чувством.
notes
Примечания
1
Господин губернатор! Национальный фанатизм и высокомерие польских иммигрантов, в соответствии с юрисдикцией Ваше Превосходительство, превышает … Мое терпение подходит к концу… некто Домбровский (фр.)
2
презумпция (фр.)
3
полное удовлетворение (фр.)