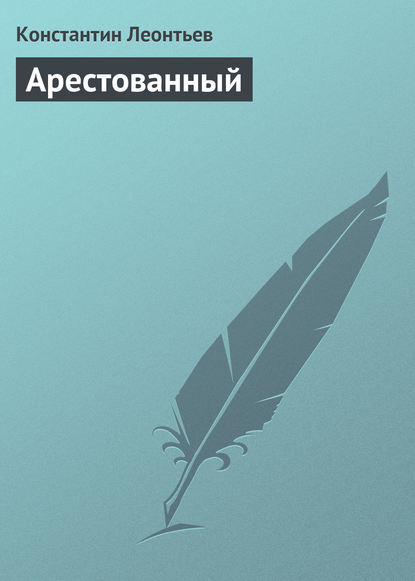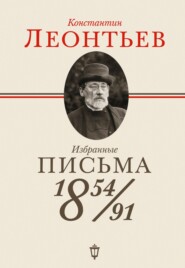По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Арестованный
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конечно, если бы в них, в старообрядцах, было возбуждено какое-нибудь сильное чувство, или ненависть к нам, или симпатия и глубокое сострадание к нему – материальных средств защититься от внезапного нападения у нас почти не было.
Однако и Масляев был кроток, как агнец, и староверы оставались лишь задумчивыми и серьезными зрителями…
Это все, впрочем, ничего… Но затрудняла очень жена Масляева.
К вечеру она стала просить позволения остаться при нем и ночью до самого прихода «Тавриды».
Нельзя было разрешить этого. Как ручаться, что успел предусмотреть все возможности побега или те ухищрения, к которым может прибегнуть такой изобретательный и отважный человек, каким мне самому казался обвиняемый, и каким он являлся и в записке следователя и по словам предавших его единоверцев.
Жена его была тут уже давно; она долго сидела у него в комнате. Они могли успеть уже уговориться и сообразить целый план таких действий, которые мне и на ум не приходили.
Однако все близкие мои, все окружающие меня, все домочадцы мои стояли в этом случае за пленника и жену его. Драгоман говорил мне робко:
– Я думаю, что можно ей позволить это!
Молодые ребята, молдаван и араб, – оба глядели жалостливо и говорили, что он «бедный» и от этих новых наручников, от больших, все-таки страдает…
Сидел у меня в это время наш доктор, Эпштейн, один из самых добрых и благородных людей, каких я только в жизни встречал…
У него даже слезы были на глазах…
Под влиянием всего этого я вышел сам поговорить с рыдающей попадьей. Женщина она была совсем простая; полная, средних лет, не хороша и не дурна. Одета была она совсем по-русски. Передник под мышками, сарафан, ситцевый платочек… На дворе дул сильный ветер; пыль поднималась столбом ей в лицо, и длинный передник ее, эта калужская «занавеска», столь родная на дальней чужбине, развевалась туда и сюда.
Все это меня несколько смущало…
Но надо было скорее положить всему этому конец, и я сказал ей: «Нет, нельзя, матушка, вам здесь на дворе больше оставаться… Идите сейчас со двора»… А кавасу крикнул:
– Запри за ней ворота и калитку, и больше никого уже без спроса на двор не пускать!
Несчастная женщина пошла покорно к воротам, утирая глаза передником; за ней ушли и два-три старовера, которые еще были на дворе; засовы на воротах загремели – и Масляев остался один под нашей стражей.
Совсем стемнело.
Никто у нас не ложился спать.
Из староверов также долго никто не являлся.
Только часу в одиннадцатом ночи постучался отец Григорий; он пришел просить у меня позволения отпустить с Масляевым на дорогу припасы и какие-то вещи незначительные. Его сопровождали двое мирян, хорошо мне известных; один из них был столяр и часто работал у меня в консульстве.
Я вынужден был тотчас же написать об этом обстоятельстве еще одно небольшое отношение к одесскому начальнику; все вещи я велел связать и запечатать.
Я объявил при этом староверам, что иначе поступить не могу; моя обязанность доставить Масляева в Одессу верно и сохранно; что я готов им верить всей душой, но все-таки не могу знать ничего наверное… Во всяком случае, одесское начальство больше моего знакомо со всеми порядками и правилами внутреннего управления; там они или распечатают и отдадут ему, или нет.
Староверы согласились со мной; они, казалось, не были недовольны моими распоряжениями, а священник даже и выразил это:
– Мы даже очень довольны вами, – сказал он, – на вашем месте и нам бы пришлось так же поступить.
Наконец зашумела в темноте на Дунае перед окнами консульства запоздавшая «Таврида» и раздались свистки. Явился тотчас же драгоман и поспешно взял бумаги и вещи Масляева. Из окон наших ночь казалась очень темною. Масляева довольно скоро провели по берегу к консульской маленькой лодочке. Я видел из окна моего кабинета только фонарь и какие-то тени.
«Таврида» все шумела и все держалась на месте, ожидая…
Наконец, я услышал, – она тронулась… Раз, раз, раз… потом тише, тише, дальше…
Драгоман вернулся довольный и возвратил мне мой, слава Богу, не разряженный револьвер.
– Все благополучно, – сказал он. – Сдал его капитану под охрану двух военных матросов. Только, Боже мой! – какое любопытство он возбудил на пароходе… пассажиры первого класса вышли на палубу… Дамы…
– Ну, слава Богу, – сказал я. – Вот мы с вами и дело кончили!
Через неделю возвратилась опять «Таврида» из Одессы; я поехал на ней в Галац и узнал про Масляева еще новости.
Появление Масляева возбудило всеобщее любопытство на палубе парохода. Дамы и пассажиры всех классов окружили арестованного, расспрашивали, сострадали ему, утешали… Вид его рук, замкнутых в железные турецкие колодки, особенно возбуждал жалость женщин. Масляев уверил всех, что он гоним, оклеветан, что он страдает напрасно.
Вид его, я уже говорил, был весьма почтенный и даже приятный.
Дамы стали просить капитана, чтобы он, по крайней мере, снял бы с него эти ужасные колодки.
Капитан признавался мне, что он и сам был, наконец, растроган и желал избавить Масляева от боли и тяжести в руках, но второпях забыли отдать ему ключ от этих колодок.
Была минута, когда думали о том, как бы их без ключа сбить и снять.
Но капитан воздержался от этого, не считая себя вправе этого сделать…
– Ну и сказал же я спасибо потом вашему драгоману за то, что он забыл отдать мне ключ!
– А что?
– Да если бы был ключ, я, вероятно, не стоял бы и, пожалуй, отпер бы; а он бросился бы в воду и уплыл бы; Дунай тут узок. Он оказался отчаянным человеком, и хорошо вы сделали, что так старательно и строго его держали.
В заключение рассказали мне, что когда приехали в Одессу, и Масляев понял, что надежд ему нет уже никаких, то, увидавши пятерых жандармов на пристани, вдруг переменил тон и при всех своих прежних защитниках и защитницах воскликнул громко:
– Э! вас только пятеро тут! Ну, счастье ваше, что у меня на руках колодки… а то я бы показал вам, кто я такой.
Все, конечно, были поражены этой каторжной «выходкой».
Был ли обвинен Масляев судом – не знаю. Может быть, он и оправдан…