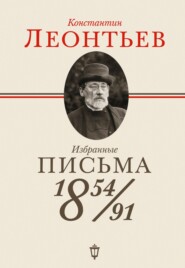По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Одиссей Полихрониадес
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Г. Благов все еще не возвращался, и скоро мы получили известие, что он уехал в Македонию для свидания с другим консулом русским, и неизвестно, когда возвратится. «Посмотрим, что? задумала еще Россия?» говорили люди. «Прежде она все с обнаженным мечом над Турцией стояла, а теперь за развалинами Севастопольскими прилегла и в подзорную трубку смотрит».
Первые дни мы, по старому обычаю, принимали посещения, сидя дома с раннего утра, а потом отдавали их.
Много перебывало у нас разных людей за эти дни, и больших и простых людей. Приезжал сам митрополит, архонты, были доктора, священники, монахи, учителя, ремесленники разные, были даже некоторые турки и евреи, которые знали давно отца.
Отец всех принимал хорошо, сажал, угощал; иных, кто был выше званием или богатством, он провожал до самой улицы.
Я же всем этим посетителям, без различия веры и звания, прислуживал сам, подносил варенье с водой и кофе, чубуки подавал и сигарки им делал. Чубуки, конечно, предлагали только самым высшим по званию, а другим сигарки.
Все меня поздравляли с приездом, приветствовали, хвалили и благословляли на долгую жизнь и всякие успехи.
«Мы тебя теперь, Одиссей, яниотом нашим сделаем», говорили мне все. Так меня все одобряли, и я уже под конец стал меньше стыдиться людей. Вижу, все меня хвалят и ласкают.
Доктор иногда выходил к гостям; но большею частью он уходил утром из дома к больным, чтобы показать, что не к нему гости, а к отцу моему приходят, и что он это знает.
Взойдет иногда на минуту в гостиную, посмотрит на всех в лорнет, поклонится, высокую шляпу свою венскую тут же наденет и уйдет, только бровями подергивает.
Ненавидел он яниотов.
Гайдуша была во все это время очень гостеприимна, помогала мне служить гостям, ничего не жалела для угощения. Когда я просил у неё: «Еще, кира Гайдуша, одолжите по доброте вашей кофе на пять чашечек». Она отвечала: «И на десять, дитя мое, и на двадцать, паликар прекрасный».
Так она была гостеприимна и ласкова, что я уже под конец недели перестал ее почти и ламией[30 - Ламия – ведьма, съедающая иногда молодых людей.] звать.
Видел я довольно многих турок за это время.
Видел я и самого Абдурраим-эффенди, о котором так часто говорил Коэвино; он приходил не к отцу, а к своему другу доктору. Наружность у него была очень важная, повелительная; худое лицо его мне показалось строгим, и хотя доктор клялся, что он добрейший человек, я все-таки нашел, что обращение его с отцом моим было уже слишком гордо.
Доктор представил ему отца, как своего старого знакомого; бей сидел в эту минуту с ногами на диване, завернувшись в длинную кунью шубку, и с важною благосклонностью взглянул в сторону отца. Отец подошел к нему поспешно, согнувшись из почтительности, и коснулся концами пальцев руки, которую бей чуть-чуть ему протянул, даже и не шевелясь с места.
Я заметил еще, что Абдурраим-эффенди как будто бы брезгливо отдернул и отряхнул те пальцы, к которым отец прикоснулся.
Когда отец говорил потом что-нибудь очень почтительно, бей выслушивал его как будто бы и вежливо, но почти не отвечал ему, а смотрел с небольшим удивлением, как будто спрашивая: «А! и этот деревенский старый райя тоже говорит что-то?»
Он даже иногда слегка улыбался отцу; но обращался тотчас же к доктору и говоря с ним становился весел и свободен, как равный с равным.
Искренно ли или лицемерно, но отец хвалил бея за глаза; но я не мог долго простить ему это надменное обращение с бедным моим родителем и со злобною завистью дивился, почему он оказывает такое предпочтение безумному Коэвино?
Гораздо приятнее было для меня знакомство со старым ходжей Сефер-эффенди.
Вот был истинно добрый турок, почтенный, простодушный и забавный. Нос у него был преогромный и красный; чалма зеленая; борода длинная, белая; руки уж немного тряслись, и ступал он не очень твердо ногами, но глаза его были еще живые и блистали иногда как искры. Все он шутил и смеялся. Знаком он был с отцом моим давно.
В ту минуту, когда он пришел к нам, ни отца, ни доктора не было дома. Мы с Гайдушей его приняли и просили подождать; я сам подал ему варенье и кофе. Он спросил меня, знаю ли я по-турецки? Я сказал, что на Дунае, когда был мал, недурно знал, но что здесь, в Эпире, немного забыл.
Сефер-бей, все улыбаясь, смотрел на меня пристально и долго не пускал от себя с подносом, долго сбирался на это ответить мне что-то; думал, думал и сказал, наконец, по-турецки:
– Видишь, дитя, никогда не говори, что ты знал хорошо по-турецки! Слушай. Арабский язык – древность, персидский – сахар, а турецкий – великий труд! Понимаешь?
Я сказал, что понимаю. Старик тогда без ума обрадовался и хохотал.
Я хотел унести поднос; но ходжа схватил поднос за край рукою и спросил:
– Знаешь ли, дитя мое, кто был Саади?
Я сказал, что не знаю и не слыхал.
– Саади, дитя, был стихотворец, – продолжал Сефер-эффенди, одушевляясь. – Вот что? он сказал про тебя, мой сын: «Этот кипарис прямой и стройный предстал пред мои очи; он похитил мое сердце и поверг его к стопам своим. Я подобен змее с раздавленною головой и не могу более двигаться… Этот юноша прекрасен; взгляни, даже когда он гневается, как приятна эта строгая черта между его бровями!» А Гоммам-Эддин, другой стихотворец, сказал иные слова, про тебя же: «Одним взглядом ты можешь устроить наши дела; но ты не желаешь облегчать страдания несчастных». Это что? значит, мой сын? Это значит, что ты должен всегда оставаться добродетельным!
Я от этих неожиданных похвал и советов его так застыдился, что ушел в другую комнату и, услыхав, что Гайдуша вслед мне смеется громко (она без церемоний села и беседовала с ходжей), еще больше растерялся и не знал уже, что? делать. Слышал только, что Гайдуша сказала турку:
– Да, он у нас картиночка писаная, наш молодчик загорский, как девочка нежный и красивый. А глаза, ходжа эффенди мой, у него, как сливы черные и большие. На мать свою он похож.
– Это счастливый сын, я слышал, который на мать похож, – отвечал старик.
Сознаюсь, что хотя я и стыдился, а похвалы эти мне были… ах, как приятны!
Понравился мне также тот молодой чиновник Сабри-бей, который показывал нам в конаке залу Али-паши.
Ничего в нем не было страшного или грубого. Такой тихий, ласковый, с отцом моим почтительный, руку все к сердцу: «эффендим, эффендим!» Собой хоть и не особенно красивый, но такой высокенький, худенький, приятный, с усиками небольшими. По-французски он говорил свободно; а когда он начинал говорить по-турецки, языком высоким, литературным, то это было просто очарование его слушать; гармония и сладость!
– Эффендим! – говорил он отцу моему вкрадчиво, сидя у нас, – прошли времена мрака и варварства, и мы надеемся, что все подданные султана будут наслаждаться совокупно и в несказанном блаженстве равенством и свободой, под отеческою и премудрою властью!
– Есть еще, увы! многое, многое, эффенди мой, достойное сожаления и жалоб, – сказал ему отец.
– Эффенди мой, кто этого не видит! – возразил Сабри-бей с достоинством. – Но справедливо говорят французы: «Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas!» Постепенно и неспешно все изменяется! Все, решительно все, верьте мне! И еще древний латинянин сказал: спеши медлительно. И сверх того, прошу у вас прощения, сказал и другое хорошее слово француз: «Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles».
Я, слыша это, вышел в другую комнату и воскликнул сам с собою: «Нет, действительно турки сильно идут вперед! Так что это для нас даже невыгодно! Истинно сказано: «пути Провидения неисповедимы!» И я печально задумался с подносом в руке.
В эту минуту на лестнице раздался страшный, дикий рев и крик; рев этот не походил ни на визг Гайдуши в гневе, ни на восторженные клики Коэвино. Я вскочил с испугом и встретился вдруг лицом к лицу со страшным человеком. Это был дервиш. Смуглый, нисенький и седой, в высоком остром колпаке набекрень, в длинной одежде и с огромною алебардой в руке.
Взгляд его был ужасно грозен, и на одном виске его под колпак был всунут большой букет свежих цветов.
– Га! га! – кричал он, – га-га!
Не знаю, как даже изобразить тебе на бумаге его ужасный крик и рев! Я совсем растерялся и не знал, что? подумать, не только что? сделать. Варвар, однако, шел прямо на меня с алебардой и сверкая очами. Поравнявшись со мной, он не останавливаясь поднес свою руку к моим губам; и я поспешил поцеловать ее, радуясь, что не случилось со мной ничего худшего. Отец в эту минуту приподнял занавес на дверях и воскликнул как будто с радостью:
– Браво! браво! Добро пожаловать, ходжи-Баба. Жив ты еще? Милости просим, дедушка Сулейман!
Ходжи-Сулейман не обратил на слова отца никакого внимания, движением руки отстранил его от дверей, прошел через всю комнату, едва взглянув на Сабри-бея, и важно сел на диване, потом уже сидя он осчастливил всех по очереди и небольшим поклоном. Отец подал мне знак, и я принес старику варенье и кофе (страх мой уже прошел и сменился любопытством). Сабри-бей с презрительною усмешкой спросил тогда у дервиша: «Как его здоровье?»
– Лучше твоего, дурак, негодяй, рогоносец! – отвечал старик спокойно.
Мы засмеялись.
– Мне сто двадцать лет, – продолжал ходжи, – а я скорей тебя могу содержать по закону четырех жен, дурак, негодяй ты ничтожный.
– Отчего ж у тебя одна теперь только жена, да и та черная арабка? – спросил бей, не сердясь за его брань.
Старик молча показал пальцами, что денег мало, вздохнул и стал молиться на образ Божией Матери, который был подарен доктору г. Благовым и висел в гостиной на стене.