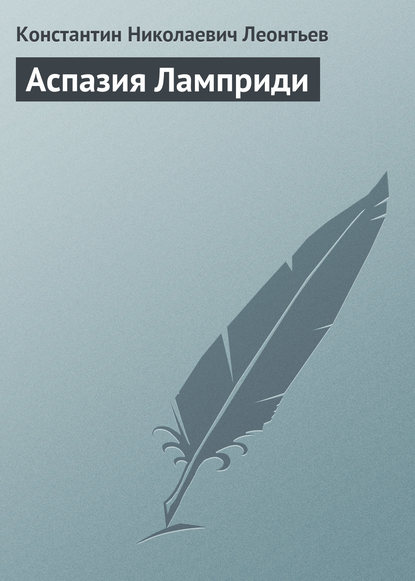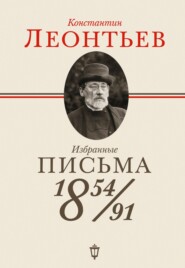По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аспазия Ламприди
Год написания книги
1871
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так после этого, – воскликнул Алкивиад, – нам остается один шаг до самосожжения индийских вдов!..
– Нам до этого еще далеко, – ответил старичок.
Алкивиад уговаривал Аспазию, по крайней мере, гулять для здоровья. Доктор, который лечил Ламприди, поддерживал Алкивиада.
У Аспазии был свой апельсинный сад на конце города. Он достался на ее долю после смерти мужа и давал недурной доход. Но Аспазия не видала его ни при жизни мужа, ни вдовой.
Раз в месяц приходил к Аспазии садовник, докладывал ей, как цветет сад, как созревают плоды или как идет их сбыт; приносил букет цветов, узел апельсинов и лимонов или две-три золотых лиры за продажу фруктов… Аспазия осматривала апельсины, разрезывала их, смотрела, не испортились ли они от холодов, считала деньги; давала садовнику небольшую награду, а сама в сад все-таки не шла.
Алкивиад в этом саду был несколько раз, несмотря на зимнее время; имел там гостей у садовника; лежал на рогожке подолгу под тенью прекрасных деревьев, обремененных и в это суровое время года плодами; мечтал о любви, о судьбах отчизны.
Туда несколько раз умолял он пойти Аспазию. Один вечер он был так красноречив, приводил столько хороших примеров, так настращал Аспазию словами доктора, который жалел, что все почти молодые женщины в Эпире бледны и слабы от затворнической жизни, что Аспазия поколебалась. Отец поддержал Алкивиада.
– Для здоровья и церковь разрешает нарушать посты, – сказал он. – А в прогулке что дурного? Это наше местное безумие и больше ничего.
Мало-помалу после разрешения отцовского все стали собираться на прогулку, если завтрашним утром будет хорошая погода. Все, кроме отца, который должен был заседать в меджлисе, и двух младших дочерей, которым обычай дозволял только изредка и по вечерам выходить в гости к близким родным. Мать спросила у мужа: «в котором году бунтовался в Эпире Гиони-Лекка?», и когда муж сказал: «в сорок восьмом году», она сочла года, протекшие с тех пор, и, вздохнув, с улыбкой покачала головой: «Точно вчера это было! С тех пор я и в садах не была. Покойный поп Георгий (да упокоит Господь его душу!) встретился с нами там. Сам он был ведь человек семейный и нашу семью любил. Муж тогда в Константинополь поехал; меня уговорила идти гулять покойная сестра; а поп Георгий и встретился. Любил шутить он и говорит: «Что, – говорит, – кира? Гуляешь с тоски по мужу? И то сказать, след ли человеку жену законную зимой одну оставлять… Зимой теплота нужна всякому рабу Божию». Чуть мы было от смеху не померли все… Вот двадцать один год с тех пор прошло, и не видала я этих садов».
Алкивиад не совсем был доволен, что и тетка собралась идти. Он рассчитывал, что пойдут только Николаки с женой и Аспазия. При Николаки одном было бы свободнее. Николаки считался в Рапезе нововводителем; он позволял себе ходить по улицам с женой под руку, тогда как и не под руку с женами вместе ходить днем по улицам без крайней нужды избегают в Эпире. Хаживал вместе с женой и по утрам не раз с визитами; хотя и это тоже не в обычае. По обычаю, молодая жена должна делать визиты с тещей или с другою пожилою дамой; а если тещи нет, то с «параманой», старушкой нянькой или кухаркой.
Всякий знает: если идет молодая архонтиса в шелковом платье, и платочек новенький, вышитый золотом или шолком, на голове, а рядом старушка в черном бумажном платье и в чорном простом платочке на голове, – всякий тогда видит и знает, что архонтиса молодая идет «сделать посещение в честный дом». И всякий, кто кланяется ей, думает: «Хорошая женщина! Хорошая супруга! Хозяйка женщина, исполненная добродетелей!»
Николаки считался поэтому в таких делах нововводителем и раз даже позволил, по примеру русского консула, посетившего как-то Рапезу, поставить жену в церкви внизу с мужчинами, возле себя, вместо того, чтоб отправить ее на хоры, где за решетчатою перегородкой, как в гареме, стоят все хорошие женщины. Но это он сделал только раз; жена его была красива; она чувствовала взоры паликаров, не могла спокойно молиться и уже с тех пор ни разу не спускалась вниз к мужу…
Рассчитывая на это, Алкивиад уже рисовал себе картину. По городу Николаки пойдет под руку с женой. Аспазия и он сам пойдут около них или вперед особо каждый. Иначе, конечно, Аспазия согласиться не может; но за городом, когда никого не будет видно, он непременно возьмет Аспазию под руку и пустит молодых супругов вперед. Тогда, вдали от всякого надзора, он и руку пожмет покрепче, и. слово иное скажет, быть может, и поцелует, сперва насильно, где-нибудь за поворотом, за скалой, за деревьями. А потом уже и не насильно!..
С этими мыслями он и заснул приятнее, чем когда-либо, не теряя надежды, что старушка еще раздумает и не будет мешать им.
Но эти надежды не сбылись. Рано утром, едва только он проснулся, Алкивиад увидал, что по улице идет к нему в халате и вязаной ермолке Николаки.
Он отворил окно и спросил его:
– Что нового? Идем или не идем?
– Подожди! – ответил ему Николаки задумчиво. И больше ничего с улицы не хотел сказать.
В комнате он тотчас же разразился проклятиями на беспорядки, которым нет конца в Турции, несмотря на то, что новый вали-паша берет, казалось бы, хорошие и строгие меры.
На рассвете, около самого сада Аспазии, нашли тело убитого молодого поселянина. Сначала думали, что он убит не разбойниками, а из личной мести или в ссоре с кем-нибудь из своих же, потому что убит он был, – не застрелен и не зарезан, а задушен и забит до смерти чем-то тупым. Потом поймали между большими камнями осла, на котором было одно лишь деревянное седло. Люди, которые знали молодого человека, сказали, что осел этот его, что он обыкновенно привозил в город дрова, уголья, а иногда и более ценные вещи на трех-четырех ослах. Значит двух или трех ослов увели вместе с навьюченным добром, а этот осел, тоже развьюченный, как-нибудь вырвался и убежал.
Это уж на простую ссору или на месть не похоже.
Николаки, однако, подозревал не разбойников, не Салаяни, не фессалийскую шайку какую-нибудь, которая могла неожиданно пробраться и сюда, не Дэли, который, как слышно, бедных поселян не убивал и даже не грабил. Он подозревал или албанцев-мусульман, из которых постепенно набирались в то время охотники для новой пограничной стражи, или же прежних баши-бузуков, которые недовольны тем, что их распустили и лишили их и казенных «пайков», и всякой возможности вступить с разбойниками в братские соглашения и делить с ними добычу, для вида гоняясь за ними.
Николаки был вне себя от гнева, кричал и проклинал и хидудье, и баши-бузуков, всех турок и даже эллинов, за то, что они еще хуже турок потворствуют разбою на границах Эпира и Акарнании…
– Ваши проклятые чернильщики афинские виноваты больше турок, – говорил он… – Вместо того чтобы с Турцией заключить политические союзы… лучше бы точнее исполняли взаимные обязательства о выдаче разбойников и других злодеев. Не хуже вас и мы эллины, а иной раз с охотой послал бы я вам в наказанье английскую эскадру в Пирей, либо казака с кнутом на ваших адвокатов и газетчиков!.. Смотри, не жалость разве? Что за мальчик хороший был этот деревенский! Честный, смирный был мальчик, бедный! Да успокоит Господь Бог его невинную душу!.. Честным людям и на свете нельзя так жить!..
Алкивиад вместе с Николаки пожалел о мальчике, и когда тот немного успокоился, он спросил его:
– А гулять не пойдем разве?
– Хорошее гулянье! – ответил Николаки. – Поди уговори жену мою и Аспазию к этому месту теперь… Увидишь, что они тебе скажут… Я с тобой пожалуй пойду и место тебе покажу, где человека убили.
Алкивиад еще надеялся уговорить женщин сам, но Аспазия отвечала, что боится и не пойдет за город без вооруженных людей, и прогулка была надолго отложена.
XV
Вскоре Алкивиад узнал, что у него есть соперник. В Рапезе жил молодой архонт по имени Яни Петала. Ему было около 30, и, несмотря на это, отцы семейств и даже молодые женщины звали его всегда то пэди, то есть дитя, мальчик, потому только, что он был холост. Он был очень богат; жил вдвоем со старухой матерью, которая страдала ногами и почти не сходила с кресла, привставая лишь для самых важных лиц.
Собой, по мнению Алкивиада, он был очень противен. Лицо его было бледное, изнуренное; под глазами синяки; выражение суровое, недоброе, длинные жесткие усы, глаза навыкате; бороду брил он только раза два в неделю; одевался грязно и бедно (конечно, во франкское платье); даже феска его всегда была стара.
– Экономический человек! Хозяин! – говорили про него архонты.
– Да, – подтверждали архонтисы, – Бог в утешение дал матери больной такого сына.
Все считали его дельцом. Он так же, как и кир-Христаки, дружен был со многими турецкими беями и чиновниками. Давал им взаймы деньги и держал их этим в руках. «Кир-Янаки! кир-Янаки!» звали его турки и хвалили его. Через это и он мог иногда делать добро своим. Однажды, гуляя с Алкивиадом, зашли они на горку, под которой стояла непроходимая грязь. Им не хотелось идти через эту грязь; Петала позвал одного ремесленника грека, велел ему разобрать ограду из колючих растений в чьем-то чужом саду, чтобы пройти чрез него, и опять забрать ограду за ними.
– Чужой сад! – сказал Алкивиад.
– Ба! Это ничего, – отвечал Петала. – Я знаю хозяина; он бедный человек, башмачник.
– Разве бедность его дает нам право ломать его ограды? – спросил Алкивиад.
– Дает, потому что и он во мне нуждается. Он знает, что завтра, послезавтра я могу его освободить из тюрьмы или сделать еще что-нибудь для него полезное.
Алкивиад не возражал на это; он и сам был рад спасти от грязи свои афинские ботинки; но все, что бы ни делал, ни говорил этот человек, ему было противно.
Ему было противно, когда он слышал, что Петалу называли пэди и, как ему казалось, искажали значение этого ласкательного слова, называя им грубого и грязного тридцатилетнего архонта. Не нравилось ему также, когда Петалу звали поликаром. Какой же он паликар? На вид неуклюж и грязен, боязлив. С тех пор как разбой стал сильнее около Рапезы, в имение свое не ездит, на охоту за город ходить боится. Такие ли бывают паликары? Сам Алкивиад паликар – другое дело. Скачет верхом каждый день далеко по горным тропинкам, иногда до самой Петы; собой красив, моложав и свеж, как девушка, ловок и умен.
А звать Петалу паликаром и пэди – это не имеет смысла. Иные в городе находят Яни Петалу не только паликаром и пэди, не только дельцом и образованным человеком хорошей фамилии, но еще и очень остроумным человеком.
Алкивиад старался понять, в чем же его остроумие; замечал, чему смеются люди, когда он говорит.
Иногда к Алкивиаду заходили вместе с Яни Петала и другие молодые люди, сыновья докторов, купцов, священников городских и учителей, все люди «хорошие», «лучшего общества»; пели (притворив окна) патриотические песни, шутили и беседовали. Алкивиад прислушивался к остроумию их.
– Молчи, молчи! – говорил Петала приятелю, – я посажу тебя на телеграфную проволоку, и мы тебя будем с двух сторон бить хлыстами, и ты так верхом до Янины доедешь!
Все хохотали.
– Где он находит все это, этот человек! – восклицали собеседники.
Один из источников остроумия Петалы Алкивиад, однако, скоро нашел. Петала и сам не скрывал его.
Это была книжка, которая вышла недавно в Константинополе под заглавием: «Орнито-скализмата», что значит «Куриное скобление», то есть автор роется в житейском прахе и выскабливает всякую мелочь для осмеяния порока.
Книжка эта составлена в виде букваря, по алфавиту, и каждое слово имеет определение ядовитое и тонкое, по мнению многих греков.
Русский (например) значит – человек, который бьет свою жену, своего слугу и своего осла.