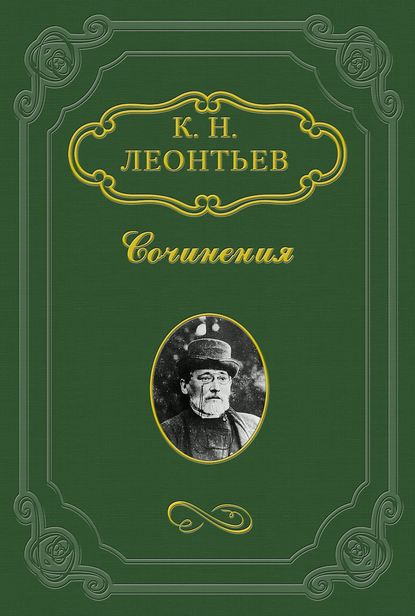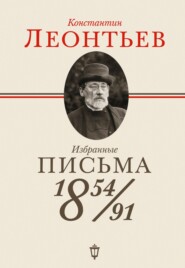По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И в «Анне Карениной», как видно из приведенных примеров, все это попадается, но реже, чем в «Войне и Мире». Работа чище. Анализ психический стал вернее, органически солидарнее с действиями людей и т. д. Язык, даже и при громком чтении, стал приятнее. Ну и «мух» всякого рода поменьше. И у великих дарований есть свои умственные пределы. Лично-гениальный Толстой, все-таки, вырос на тройном русском отрицании, на отрицании политическом, т. е. на отрицании всего социально-высшего, – это раз. Результат: чрезмерное поклонение мужику, солдату, армейскому и простому Максиму Максимычу и т. п. Потом на отрицании моральном, – в первых произведениях, особенно в «Детстве» и Севастопольских очерках: – все тщеславие и тщеславие! Анализ односторонний и придирчивый; искусственное, противоестественное возведение микроскопических волокон и ячеек в размеры тканей, доступных глазу невооруженному. И, наконец, на отрицании эстетическом: на подавляющих примерах великого Гоголя и отчасти на слабостях Тургенева, который, под влиянием времени, портил свой нежный, изящный, благоухающий талант то поползновениями на нечто в роде юмора, которого у него было мало, то претензиями на желчь. Я говорю «претензиями», ибо если уж хочешь упиваться исступленною желчью, так надо не Тургенева читать, а Щедрина, или «Записки из Подполья» Достоевского. У Щедрина желчь сухая, злорадная, подлая какая-то, но сильная в этой своей подлости; у Достоевского же желчь больная, смешанная с горькими, нередко глубоко умиляющими слезами. Толстой рос на всей этой нашей отрицательной школе, и хотя он великолепно перерос ее в двух больших романах своих, но и на них еще слишком заметны рубцы от тех натуралистических сетей, в которых смолоду долго бился его мощный талант.
Совсем этих рубцов, этих мух, этих шероховатостей и шишек не видно только на простонародных рассказах его. Эти мелкие рассказы подобны прекрасным сосудам из чистого, полупрозрачного, белого и дорогого фарфора. Искусный рисовальщик нежно и сдержанно разбросал на них цветки голубые и розовые, золотые черточки и каких-нибудь божьих коровок с черными пятнышками на красных и палевых спинках.
Ars longa, vita brevis! Увы! даже и для гения!
XIII
Продолжаю все о том же.
Язык, или, общее сказать, по-старинному стиль, или еще иначе выражусь – манера рассказывать – есть вещь внешняя, но эта внешняя вещь в литературе то же, что лицо и манеры в человеке: она – самое видное, наружное выражение самой внутренней, сокровенной жизни духа. В лице и манерах у людей выражается несравненно большее бессознательное, чем сознательное; натура или выработанный характер больше, чем ум; по этой внешности многие из нас выучиваются угадывать разницу в характерах, но едва ли найдется человек, который бы по манерам и по лицу двух других людей, не зная их мыслей, не слыхавши их разговоров, мог бы определить различие в их умах. Подобно этому и в литературно-художественных произведениях существует нечто почти бессознательное, или вовсе бессознательное и глубокое, которое с поразительною ясностью выражается именно во внешних приемах, в общем течении речи, в ее ритме, в выборе самих слов, иногда даже и в невольном выборе. Других слов автор не находит; он их забыл или не любит их, вследствие каких-нибудь досадных сочетаний в его представлениях. Он привык к другим словам, и от них его не коробит. («Коробит» это тоже нынешнее слово, – весьма некрасивое; я его не люблю, но тоже привык к нему).
Разумеется, «стол» у всякого будет «стол» и «стул» – «стул»; но уж «человек» – у одного так и будет просто человек; а у другого в наше время – господин, или даже индивид, или субъект. «Развитой господин», «удивительный субъект!» Заставьте человека с хорошим вкусом употребить не в насмешку выражение – «интеллигент», заставьте его написать это слово просто и серьезно без кавычек, – он ни за что не согласится. Лучше я произнесу какое-нибудь непристойное слово, чем вместо «умный человек» позволю себе сказать «развитой господин!» И так далее. Об одном и том же люди разного времени, разного пола и разного эстетического воспитания выразятся различно. В чертах широких эта разница заметна и на целых нациях. Французы (особенно прежние) предпочитают брать все повыше жизни. Русские последнего (еще не завершенного) полугоголевского периода – как можно ниже. Англичане занимают середину. Нужно, например, сказать, что одно из действующих лиц мужского пола чего-нибудь испугалось. Англичанин скорее всего скажет просто, не преувеличивая ни в ту, ни в другую сторону, ни вверх, ни вниз: «Сильно испугавшись, Джемс стоял неподвижно» и т. д. Француз: «Альфред затрепетал! Смертельная бледность покрыла его прекрасное лицо… Он удалился, однако, с достоинством».
Русский писатель предпочтет выразиться так: «Мой герой струсил, как подлец, и потащился восвояси». Быть может, даже еще лучше: «попер домой».
Это все относительно выбора отдельных слов и целых фраз. Теперь тоже о складе речи и манере изложения. Писатели прежние, давние, в повествовательных произведениях своих предпочитали вообще рассказывать от самих себя на нескольких страницах, от времени до времени только вставляя отрывки из разговоров действующих лиц или даже только самые характерные их слова и фразы. Теперь собственно свой рассказ автор старается сократить, быть может сознательно в угоду читателю, слишком нетерпеливому, подвижному, избалованному быстротой нынешней жизни; а может быть, и непроизвольно, потому что сам привык так писать, – и иначе ему не нравится. Рассказ от автора нынче вообще короче, а все место занято разговорами, движениями и мелкими выходками самих действующих лиц, нередко до ненужной, утомительной нескладицы. Это называется «действие», или «живость изображения».
Нужно, например, сказать, что раздумье героини было прервано тем, что ее позвали к чаю. Прежний, давний автор, даже и к реализму расположенный, предпочел бы сообщить нам об этом, положим, так:
«Но ее глубокое раздумье длилось недолго. Ее позвали пить чай, и она пошла, печально и со страхом помышляя о том, какое тяжелое объяснение ей предстоит с отцом!»
А нынче:
«– Это ужасно! Это ужасно! Как мне быть? – повторяла она, качая головой и глядя на свои чистые и розовые ногти. (Это непременно тоже нужно почему-то).
«– Барышня, пожалуйте кушать чай, – басисто проговорил вошедший слуга».
И хорошо если еще только так – басисто! А то бывает и подробнее. Например: «Дверь отворилась со скрипом. Мухи, которые расположились было на ней отдохнуть, слетели целым роем. Подавшись только одним боком вперед и просунувшись немного в полуотворенную дверь, Архип выставил свое ухмыляющееся лицо»… (а может быть даже и «рябую рожу») и т. д.
Не понимаю – на что это? Это, по моему мнению, глубокая порча стиля; от этих примеров надо охранять учеников и юношей. Можно допустить эту манеру только как исключение, а не ставить ее в пример, как высший образец или как неизбежную форму. Можно выносить эту манеру у таких писателей, как Толстой, Писемский, Тургенев; можно и должно даже, хотя и морщась, прощать им ее или за другие заслуги, или за то, что у Толстого, например, и эти, сами по себе ненужные, штуки выходят нередко искуснее, чем у всех других. Он иногда очень ловко и находчиво пользуется этими дурными привычками общей школы, чтобы подарить нас каким-нибудь очень забавным или глубоким психическим наблюдением. Но тут кстати будет вспомнить еще раз древнюю поговорку: «quod licet Іо?i, non licet bovi»; да еще и наоборот: «quod licet bovi, non licet Іо?i». То есть с одной стороны: «что сходит с рук Толстому, то у дарования среднего очень противно»; а с другой наоборот: «что прилично г-ну NN, того не встретить у Толстого было бы очень приятно»!
Замечу тут еще вот что: большинство нынче находит, что так писать: «Барышня, пожалуйте чай кушать», – реальнее, правдивее, чем так: «Ее позвали пить чай».
Так ли это? Можно усомниться. В самой жизни, в жизни вещественной, положим, происходит действительно так. Войдут, скажут и т. д. Даже, пожалуй, и мухи слетят с двери и от сиденья их останутся пятна. Но так ли оно, все это, запечатлевается в жизни духа нашего? В памяти нашей даже и от вчерашнего дня остаются только некоторые образы, некоторые слова и звуки, некоторые наши и чужие движения и речи. Они – эти образы, краски, звуки, движения и слова – разбросаны там и сям на одном общем фоне грусти или радости, страдания или счастия; или же светятся, как редкие огни, в общей и темной бездне равнодушного забвения. Никто не помнит с точностью даже и вчерашнего разговора в его всецелости и развитии. Помнится только общий дух и некоторые отдельные мысли и слова. Поэтому я нахожу, что старинная манера повествования (побольше от автора и в общих чертах, и поменьше в виде разговоров и описания всех движений действующих лиц) реальнее в хорошем значении этого слова, т. е. правдивее и естественнее по основным законам нашего духа.
Конечно, еще раз скажу, не легко освободиться от привычек времени и школы даже и гениям; для этого надо или, пресытившись данною школой почти до отвращения и как читатель и как автор, сознательно искать новых путей, старый клин выбивать новым клином; иногда даже наоборот: вчерашний клин выбивать очень старым и забытым, часто преднамеренно чужим и противоположным, иностранным, древним; или надо иметь уже в собственной натуре что-нибудь особое, физиологическое, от крайностей и рутины господствующего стиля невольно отклоняющее. Не гениальность тут непременно нужна; нужна, я говорю, физиологическая или другая какая-нибудь особенность пола, возраста, среды и т. д.
У нас, например, начиная с конца 40-х годов и до сих пор, женские таланты, прямо вследствие природных наклонностей своих, меньше поддались влиянию гоголевщины и натуральной школы вообще. Самые даровитые из наших женщин-авторов, – Евгения Тур, М. Вовчок и Кохановская, – по форме, по стилю, по манере все три больше уклонились от этого принижающего давления, чем более богатые и более содержательные таланты современных им мужчин. «Племянница», «Три поры жизни» и другие повести Евгении Тур написаны языком чистым, простым, – стародворянским, так сказать, – языком, напоминающим больше тридцатые года, чем сороковые. О нежной, кружевной и гармонической речи М. Вовчка я говорил уже прежде. Кохановская тяжелее их, местами даже гораздо грубее; этим она ближе двух других писательниц подходит к современным мужчинам. Но зато ее поэзия так могущественна и самобытна, ее язык местами так живописно-оригинален и страстен, что за некоторые неловкости в изложении она вознаграждает сторицей. Иногда она напоминает и что-то гоголевское, – но какое?.. Она напоминает положительные стороны великой гоголевской музы: его мощный пафос, его выразительные, лирические, пламенные отношения к природе и т. п. Кстати замечу и нечто о содержании, о выборе героев и способе освещения их наружности и характеров. Мужчины, особенно те, которые героиням более или менее нравятся, освещены у всех этих трех женщин гораздо выгоднее, чем даже у Тургенева, то есть, у самого изящного – в этом отношении и в то время – автора-мужчины (я ведь говорю о временах до Болконского, до Облонского, Троекурова, Вронского и т. д.). Князь Чельский у Евг. Тур («Племянница») нравственно гораздо хуже Лаврецкого; но эстетический луч женской склонности освещает его выгоднее, чем могло озарить Лаврецкого сердечное уважение к нему его создателя-мужчины. В романе «Три поры жизни» Евгения Тур грустит над судьбой слабого, но интересного героя; она не презирает и не унижает его, как более или менее презирали и унижали своих слабых героев почти все писатели того времени: Писемский – Тюфяка, Гончаров – Александра Адуева, Тургенев – столь многих своих героев. (Толстой позднее их презирал немножко своего Оленина в «Казаках»). Рассказчицы М. Вовчка, большею частью молодые крестьянки, горничные и т. п., вследствие эмансипационной тенденции автора много и часто обвиняют «господ»; но и этих самых господ (обольстителей, например), этим милым рассказчицам и в голову не приходит лишними придирками или как-нибудь по внешности даже – унизить и омерзить. Ее горничные и крестьянки опрятнее с этой стороны наших лучших дворян-художников: «elles sont plus comme il faut» в своем стиле. Что касается до Кохановской, то о ней с этой стороны и говорить нечего: отрицательная и революционная критика 60-х годов ставила ей именно в упрек то, что она даже о тех людях, которых она не любит, говорит с пафосом (например, о людях слишком европейского воспитания).
Итак, не гений же какой-нибудь, превосходящий столь крупные таланты Тургенева, Достоевского, Писемского и Гончарова, придал этим женским талантам их особую оригинальность, не он создал сравнительную положительность их мировоззрения, не гений очистил, у каждой по-своему, язык и весь внешний стиль от всех тех «шишек, наростов, колючек и мух», о которых мне самому надоело уж и повторять. Не гений, конечно, а естественная наклонность женщин к более поэтическому, опрятному, «положительному» взгляду на жизнь, на литературу… и… на живых мужчин, на моделей своих созданий.
То же самое, что этим трем женщинам дал в литературе их пол, Сергею Тимофеевичу Аксакову доставил возраст его, когда он, кажется, 70-летним уже старцем создавал свою дивную, безукоризненную «Семейную хронику».
Вот вещь, от которой истинно веет и временем, и местом, и средой!
И старик Аксаков сам не был гением, но «Семейная хроника» – сочинение гениальное в том смысле, что оно истинно «классическое». Оно уж ничем, ни одною фальшивою чертой не испортит ни вкуса, ни языка, ни привычек наблюдения тому, кто попал под его влияние; оно только может исправить их, вывести на более чистую, прямую, трезвую дорогу. И сверх того – оно ни при каком настроении ума не оскорбит ничем самого разборчивого, строгого, самого причудливого вкуса. Не оскорбит «Семейная хроника» этого вкуса так же, как не может его оскорбить весь Пушкин, как не оскорбляют его «Ундина» Жуковского или последние, народные рассказы Толстого.
Наскучить может все, даже и совершенство. Можно не читать более это ничем не оскорбляющее и совершенное; но если прочитать когда-нибудь и в десятый раз, то впечатление эстетическое будет все то же – чистое какое-то, и суд будет все одинаковый: это безупречно!
XIV
Я сравниваю не Аксакова с Толстым; это совсем нейдет. Я сравниваю только «Семейную хронику» и «Анну Каренину» с «Войной и Миром». Произведение с произведением, и то с одной только стороны. Я сравниваю веяние с невеянием. Есть такие произведения – удивительные в своем одиночестве. Гениальные, классические, образцовые сочинения негениальных людей; эти одинокие сочинения своим совершенством и художественною прелестью не только равняются с творениями перворазрядных художников, но иногда и превосходят их. Таково у нас «Горе от ума». Грибоедов сам не только не гениален, но и не особенно даже талантлив во всем другом, и прежде, и после этой комедии написанном. Но «Горе от ума» гениально. Самая несценичность его, по моему мнению, есть красота, не порок. (Сценичность, как хотите, все-таки есть пошлость; сценичность все-таки не что иное, как подчинение ума и высших чувств условиям акустическим, оптическим, нервности зрителей и т. д.). «Горе от ума» истинно неподражаемо, и, в этом смысле, оно гораздо выше более всякому доступного и более сценического «Ревизора». В «Горе от ума» есть даже теплота, есть поэзия; сквозь укоризны и досаду Чацкого (или самого автора) просвечивает все-таки какой-то луч любви к этой укоряемой, но родной Москве… Какая же любовь, какая поэзия в сером «Ревизоре»? Никакой. В «Разъезде» после «Ревизора» ее гораздо больше. И в других литературах встречаются такие одинокие и классические произведения, гениальные творения негениальных авторов. Во французской литературе есть две такие вещи, как бы сорвавшиеся с пера авторов в счастливую и единственную минуту полного внутреннего озарения. Это – «Paul et Virginie» Бернардена-де-Сен-Пьерра и «Manon Lescaut» аббата Прево. В английской словесности к этому же разряду надо отнести «Векфильдского священника» и, пожалуй, «Дженни Эйр». Если бы Вертера написал не Гёте, а кто-нибудь другой, то и его можно бы сюда причислить.
У нас, кроме «Горя от ума» и «Семейной хроники», я ничего сюда подходящего не могу припомнить. Разве великолепное «Сказание инока Парфения» о святых местах, столь справедливо впервые оцененное Аполлоном Григорьевым. «Семейная хроника» вот – дивный образец того соответственно духу времени веяние, о котором идет речь. «Мысль обрела язык простой и голос страсти благородной»! Степень углубления «в душу» действующих лиц, выбор выражений, склад и течение речи русской, общий характер мировоззрения – все дышит изображаемою эпохой. Если при этом вспомнить еще о другом, тоже правдивом, хотя и несравненно слабейшем сочинении того же Аксакова, о «Детских годах Багрова-внука», то естественность и даже до некоторой степени физиологическая неизбежность этого соответственного эпохе «общего дыхания» станет еще понятнее. С. Т. Аксаков видел сам всех действующих в «Хронике» лиц; он жил с ними, рос под их влиянием, у них учился говорить и судить, его внутренний мир был полон образами, речами, тоном, даже физическими движениями этих, давно ушедших в вечность, людей. Неизгладимый запас этих впечатлений хранился в «Элизиуме» его доброй и любящей души до той минуты, когда ему вздумалось поделиться с нами своим богатством и воплотить навеки так безукоризненно и так прекрасно эти дорогие для его сердца тени прошлого.
Конечно, во всем есть известная мера (или, точнее сказать, есть мера вовсе не известная, но легко ощутимая); есть мера удаления психического и мера близости, благоприятные для полноты результата. Будь Сергей Тимофеевич человек только того времени и той среды, будь он не сын Тимофея Степановича, а младший брат его, положим, не доживший ни до Жуковского, ни до Пушкина и Гоголя, ни до Хомякова и Белинского, не переживи он даже многих (почти всех) из этих перечисленных писателей, – он бы не смог написать «Семейную хронику» так, как он написал ее: он написал бы ее хуже, бесцветнее. Или, вернее – он совсем бы не стал тогда писать об этом, не нашел бы все это достаточно интересным.
Разумеется, влияние не только знаменитых ровесников, но и младших талантов и даже собственных сыновей, столь счастливо одаренных и обширно образованных, сделало свое дело. Все эти влияния помогли прекрасному старцу лишь ярче осветить то, что жило в нем так глубоко, так неизменно, полусознательно и долго; но изломать его по-своему не мог никто, – даже Гоголь, которого он, слышно, так чтил. Он был и слишком стар и слишком светел для грубого и печального отрицания.
Во «благовремении» он принес свои благоухающие, здоровые плоды и скончался. К нему идет стих Тютчева:
Оно просиял и угас!
Да, можно верить и нельзя не чувствовать, что поэзия «Семейной хроники» – поэзия именно своей эпохи; общий дух ее – дух того времени и той среды, – дух, который ждал только для воплощения в образах и звуках – возбуждающих влияний позднейшего периода. Не только от действий и речей героев, но и от речей самого автора в «Семейной хронике» веет более простою и спокойною эпохой, точно так же, как в «Анне Карениной» все дышит своим временем, уже несравненно более сложным и более умственно взволнованным. Но про «Войну и Мир» я не решусь того же сказать так прямо. Я сомневаюсь, не доверяю; я колеблюсь…
Позволю себе здесь для большого уяснения моей критической мысли вообразить еще нечто, уже невозможное, как событие, но как ретроспективная мечта весьма, я думаю, естественное. Позволю себе вообразить, что Дантес промахнулся и что Пушкин написал в 40-х годах большой роман о 12-м годе. Так ли бы он его написал, как Толстой? Нет, не так! Пусть и хуже, но не так. Роман Пушкина был бы, вероятно, не так оригинален, не так субъективен, не так обременен и даже не так содержателен, пожалуй, как «Война и Мир»; но зато ненужных мух на лицах и шишек «претыкания» в языке не было бы вовсе; анализ психический был бы не так «червоточив», придирчив – в одних случаях, не так великолепен в других; фантазия всех этих снов и полуснов, мечтаний наяву, умираний и полуумираний не была бы так индивидуальна, как у Толстого; пожалуй, и не так тонка или воздушна, и не так могуча, как у него, но за то возбуждала бы меньше сомнений… Философия войны и жизни была бы у Пушкина иная и не была бы целыми крупными кусками вставлена в рассказ, как у Толстого. Патриотический лиризм был бы разлит ровнее везде, не охлаждался бы беспрестанно теофилантропическими оговорками; и «Бога браней благодатью» был бы «запечатлен наш каждый шаг». «Двенадцатый год» Пушкина был бы еще (судя по последнему, предсмертному повороту в уме его) произведением гораздо более православным, чем «Война и Мир». Пушкин осветил бы скорее свое творение так, как освещена была недавно одна превосходная статья в журнале «Вера и Разум» о той же борьбе Наполеона с Александром и Кутузовым, чем так, как у Толстого. У Толстого Бог – это какой-то слепой и жестокий фатум, из рук которого, я не знаю, как даже и можно избавиться посредством одного свободного избрания любви. В статье «Веры и Разума» Бог – это Бог живой и личный, которого только «пути» до поры до времени «неисповедимы». Пушкин не стал бы даже (вероятно) называть от себя бегущих в каретах и шубах маршалов и генералов французских «злыми и ничтожными людьми, которые наделали множество зла»… как «в душе» не называли их, наверное, в 12 году те самые герои русские, которые гнали их из Москвы и бранили их по страсти, а не по скучно-моральной философии. Тогда воинственность была в моде, и люди образованные были прямее и откровеннее нынешних в рыцарском мировоззрении своем. Теперь ведь даже и те, которые по каким-либо соображениям жаждут войны, до самого манифеста о войне лгут, что не желают ее: «война есть бедствие», и только! – Иначе не смеет теперь никто говорить После же манифеста, на другой же день, все вдруг обнажают свои «умственные» мечи и бряцают ими (наконец-то, искренно!) до тех пор, пока заключится мир. В то блаженное для жизненной поэзии время идеалом мужчины был воин, а не сельский учитель и не кабинетный труженик!
У Пушкина религиозное освещение было бы ближе к общенациональному; может быть, и весьма субъективное по искренности, оно было бы менее индивидуальным по манере и менее космополитическим по духу, чем у Толстого. И герои Пушкина, и в особенности он сам от себя, где нужно, говорили бы почти тем языком, каким говорили тогда, т. е. более простым, прозрачным и легким, не густым, не обремененным, не слишком так или сяк раскрашенным, то слишком грубо и черно, то слишком тонко и «червлено», как у Толстого.
И от этого именно «общее веяние», общепсихическая музыка времени и места были бы у Пушкина точнее, вернее; его творение внушало бы больше исторического доверия и вместе с тем доставляло бы нам более полную художественную иллюзию, чем «Война и Мир». Пушкин о 12-м годе писал бы в роде того, как написаны у него «Дубровский», «Капитанская Дочка» и «Арап Петра Великого». Не этот ли неверный «общий дух», не эта ли, слишком для той эпохи изукрашенная и тяжелая в своих тонкостях «манера» Толстого возбудила покойного Норова, как очевидца, возразить Толстому так резко и… вместе с тем так слабо? Не умели русские люди того времени ни так отчетливо мыслить, ни так картинно воображать, ни так внимательно наблюдать, как умеем мы. Силой воли, силой страсти, силой чувства, силой веры, – этим всем они, вероятно, превосходили нас, но где же им было бы равняться и бороться с нами в области мысли и наблюдения! И возражение Норова было до того слабо и бледно, что я, например, у которого память недурна, ничего теперь не помню из всей этой его заметки, кроме того, что мимо «пробежала лошадь с отстреленною мордой» и что «солдаты наши хотели приколоть раненого товарища, который корчился в предсмертных судорогах». Чувство, чутье у Норова, вероятно, было верное; мысль бедна, воображение слабо, и он не сумел отстоять по-своему ту эпоху, которую любил и которую, по его мнению, не совсем так изобразил Толстой.
Возвращаясь на мгновение еще раз к предполагаемому роману Пушкина, я хочу еще сказать, что, восхищаясь этим не существующим романом, мы подчинялись бы, вероятно, в равной мере и гению автора, и духу эпохи. Читая «Войну и Мир» тоже с величайшим наслаждением, мы можем, однако, сознавать очень ясно, что нас подчиняет не столько дух эпохи, сколько личный гений автора; что мы удовлетворены не «веянием» места и времени, а своеобразным, ни на что (во всецелости) непохожим, смелым творчеством нашего современника. Восхищаясь «Войной и Миром», мы все-таки имеем некоторое право скептически качать головой… Лица «Семейной хроники», лица «Анны Карениной» верны не только самим себе с начала и до конца, общечеловечески, психологически верны, они исторически правдоподобны, – они верны месту и времени своему. Точно так же были бы верны себе и эпохе лица в воображаемом мною пушкинском романе, если судить по «Арапу» и «Дубровскому». И лица, и «веяние», и сами изображаемые люди, и личная музыка их творца-рассказчика – дышали бы не нашим временем.
В «Войне и Мире» лица вполне верны и правдоподобны только самим себе, психологически, – и даже я скажу больше: точность, подробность и правда их общепсихической обработки так глубока, что до этого совершенства, конечно, не дошел бы и сам Пушкин, по складу своего дарования любивший больше смотреть на жизнь ? vol d'oiseua, чем рыться в глубинах, выкапывая оттуда рядом с драгоценными жемчужинами и гадких червей натуралистического завода. Что касается до тех же лиц «Войны и Мира» (в особенности до двух главных героев – Андрея и Пьера), взятых со стороны их верности эпохе, то позволительно усомниться… Вообще о лицах этих я не могу говорить так решительно, как говорил об излишествах наблюдения, о придирчивости анализа, о нескладице языка, о некоторой избитости общерусской и общенатуралистической манеры…
Когда мне в десятый раз говорят: «рука мясистая», «рука пухлая», «рука сухая», – я не сомневаюсь ничуть в том, что я прав, досадуя на это.
Когда меня уверяют, что Кутузов «любовался своею речью», – я с брезгливостью (не физическою, а умственною и моральною) восклицаю: – «Старо! Старо! Наслышались мы этого и у Тургенева, и у Достоевского, и у самого гр. Толстого еще в «Детстве и Отрочестве» до пресыщения. Это не тот здоровый, почти научный анализ, которым всякий должен восхищаться у Толстого и которого примеры я приводил… Это анализ ломаный, ненужный, делающий из мухи слона!»
Когда мне автор рассказывает (какой бы то ни было автор: Писемский, Тургенев или сам Толстой – все равно) не так:
«Она сидела в раздумье у окна, когда ее позвали пить чай»…
А так:
– «Барышня! пожалуйте чай кушать, басисто и глупо ухмыляясь»… и т. д.
Я могу повиниться, что, отвращаясь от второй манеры, – я эстетический мономан, художественный психопат, если окажется, что никто решительно мне в этом, почти акустическом, требовании не сочувствует; но и тут я не колеблюсь, а чувствую и чувствую сильно разницу.
Я могу колебаться в определении ценности или правильности этого странного моего чувства; не могу не сознавать его силы и не хочу расставаться с ним, даже и в случае признания его уродливым. И всегда скажу: прямой, простой, несколько даже растянутый и медлительный, или, наоборот, слишком сокращенный рассказ от лица автора лучше, чем эта вечная нынешняя сценичность изложения.
– («Да! сказал тот-то, поглядывая искоса на свой, отлично вычищенный с утра, сапог».
– «Ах! воскликнул этот-то, прихлебывая давно остывший чай, поданный ему еще час тому назад Анфисой Сергеевной, кухаркой средних лет, в клетчатом платье, сшитом за 2 рубля серебром портнихой Толстиковой». – Нет, господа! Довольно… довольно!.. Это нестерпимо, даже и у Толстого).
В первых двух случаях, то есть в осуждении излишеств, шероховатостей и подглядываний – я прямо прав.
В третьем вопросе («ее позвали пить чай» и «барышня, пожалуйте») я, быть может, все еще хочу ездить по шоссе четверней в коляске, когда все другие предовольны железными дорогами и ничуть не тяготятся их неудобствами, их рабством, теснотой и мелкою тряской. – Там я уверен в своей умственной правоте; здесь я и не претендую быть правым; я лишь доволен своим странным вкусом. (Не теряю, впрочем, надежды, что хоть немногие другие поймут меня, вспомнив о некоторых собственных мимолетных чувствах, сходных с моими)…