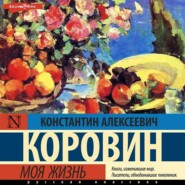По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моя жизнь
Жанр
Год написания книги
1939
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ничего, ничего, – говорил он, – а штраф отдашь. По пятерке за каждого. Нешто можно так. Вон видишь столб: «Охота воспрещается» написано.
Действительно, на столбе была дощечка, на которой написано: «Охота воспрещается», а вправо был уже дом, куда мы с ним пришли. В доме, когда я вошел, было хорошо. Дом новый. Молодая жена сторожа, самовар. Сторож, показывая себя, вынул из шкафчика чернильницу и книжку, сел передо мной, как начальник, и говорит:
– Вот пиши тута: «За неправильную охоту строго воспрещается, местожительство имею…»
Я думаю: «Что такое?»
– Пиши сам, – говорю.
Он говорит:
– Да я-то писать плох. Можно вот как ответить за это.
А жена его, ставя на стол жареные грибы, смеясь, говорит:
– Ишь какого охотника пымал? Чего вы ето. А ты тоже, писака, ишь какой. Чего рассердился, чего ты пишешь. Садись грибы есть.
Парень еще был в гневе начальства.
– «Чего пишешь», – передразнил он ее, – а как же эдакие-то еще козу убьют… а я его не пымал. Тогда што. А кто скажет, меня ведь вон выгонят.
– Да полно, – говорит жена, – кто узнает… Целый день гоняешь, а чего здесь – никто и не ходит. Вишь барчук, он нечаянно зашел. Брось… Садись чай пить.
И муж послушал ее. Сел есть грибы, а я, как преступник, сидел у столика с книгой. Посмотрев на меня сердито, сторож сказал:
– Садись, небось не ел…
Я сел за стол.
– Анна, – сказал он жене, – достань-ка…
Анна поставила на стол бутылку и рюмки и села сама. Он налил мне рюмку и жене и выпил сам. Посмотрел на меня и спросил:
– А ты кто?
– Я из Волочка, – говорю.
– Э-э, куда ты пехтурой-то дошел. Смотри-ка, вечереет, ведь это тридцать верст… Ты что ж, при деле каком?
– Нет еще, – говорю я.
– Отчего же?
– Учусь. Не знаю еще, во что выйдет ученье мое. Охота мне живописцем сделаться.
– Ишь ты… Вот что. По иконной части.
Я говорю:
– Нет, по иконной не хочу. А вот хочу охоту написать, картину охотничью. Вот как ты меня поймал в лесу, как вот в сторожке с тобой грибы едим.
– Дак чего ж тут?
– Как чего? Хорошо очень… – сказал я и засмеялся. – Уж очень хорошо ты на меня протокол писал…
Жена тоже расхохоталась.
– «Хорошо, хорошо», – передразнил он меня, – а чего ж. Ишь, трех убил глухарей, а напорешься на кого – в ответе я буду.
А жена говорит:
– Да кто здесь ходит?
– А все-таки, – он говорит, – пятнадцать рублей штрафу.
Я говорю:
– У меня пятнадцати рублей нету.
– Нет, дак в тюрьму посадют.
Жена смеется.
– Чего, – говорит она, – Тарлецкий-то не велит, верно, коз стрелять.
– Да разве здесь есть козы?
– Есть, – сказал сторож, – Тарлецкий сам говорил.
– А ты видал?
– Не-ет, я-то не видовал…
Жена, смеясь, говорит:
– Дак никаких коз и нет, а это в прежнем году назад охотники были, господа какие-то, нерусские. Вот были – пьяней вина. Дак верно, им козу пустили, белую, молодую. Вот показали, значит, чтоб в козу стрелять. Ну а она убежала. Видели ее, стреляли, да что, да нешто им охота. Вот они здесь пили. И вино хорошо. Бутылки хлопают, а вино бежит. Жарко было. Дак они прямо бутылки в рот суют. Ну чего, они ничего и не застрелили… Собаки с ними, только собаки за козой не бегут. Она – не дикая, знать, оттого не бегут.
VII
В августе месяце я вернулся в Москву. Сущево. Бедная квартира отца. Отец болен, лежит. Мать все время удручена его болезнью. Отец худой, в красивых глазах его – болезнь.
Жалко мне отца. Он лежит и читает. Кругом него книги. Он был рад меня видеть. Я смотрю – на книге написано: Достоевский. Взял себе одну книгу и читаю. Замечательно…
Пришел брат Сережа. Он жил отдельно с художником Светославским в большом каком-то сарае. Называется – мастерская. Там было хорошо. Светославский писал большую картину – Днепр, а брат мой делал иллюстрации, на которых изображалась мчавшаяся на лошадях кавалерия, разрывающиеся снаряды, ядра – война. Шла война с турками.
– Послезавтра экзамен, – сказал мне брат. – Ты боишься?
– Нет, – говорю, – ничего.
Действительно, на столбе была дощечка, на которой написано: «Охота воспрещается», а вправо был уже дом, куда мы с ним пришли. В доме, когда я вошел, было хорошо. Дом новый. Молодая жена сторожа, самовар. Сторож, показывая себя, вынул из шкафчика чернильницу и книжку, сел передо мной, как начальник, и говорит:
– Вот пиши тута: «За неправильную охоту строго воспрещается, местожительство имею…»
Я думаю: «Что такое?»
– Пиши сам, – говорю.
Он говорит:
– Да я-то писать плох. Можно вот как ответить за это.
А жена его, ставя на стол жареные грибы, смеясь, говорит:
– Ишь какого охотника пымал? Чего вы ето. А ты тоже, писака, ишь какой. Чего рассердился, чего ты пишешь. Садись грибы есть.
Парень еще был в гневе начальства.
– «Чего пишешь», – передразнил он ее, – а как же эдакие-то еще козу убьют… а я его не пымал. Тогда што. А кто скажет, меня ведь вон выгонят.
– Да полно, – говорит жена, – кто узнает… Целый день гоняешь, а чего здесь – никто и не ходит. Вишь барчук, он нечаянно зашел. Брось… Садись чай пить.
И муж послушал ее. Сел есть грибы, а я, как преступник, сидел у столика с книгой. Посмотрев на меня сердито, сторож сказал:
– Садись, небось не ел…
Я сел за стол.
– Анна, – сказал он жене, – достань-ка…
Анна поставила на стол бутылку и рюмки и села сама. Он налил мне рюмку и жене и выпил сам. Посмотрел на меня и спросил:
– А ты кто?
– Я из Волочка, – говорю.
– Э-э, куда ты пехтурой-то дошел. Смотри-ка, вечереет, ведь это тридцать верст… Ты что ж, при деле каком?
– Нет еще, – говорю я.
– Отчего же?
– Учусь. Не знаю еще, во что выйдет ученье мое. Охота мне живописцем сделаться.
– Ишь ты… Вот что. По иконной части.
Я говорю:
– Нет, по иконной не хочу. А вот хочу охоту написать, картину охотничью. Вот как ты меня поймал в лесу, как вот в сторожке с тобой грибы едим.
– Дак чего ж тут?
– Как чего? Хорошо очень… – сказал я и засмеялся. – Уж очень хорошо ты на меня протокол писал…
Жена тоже расхохоталась.
– «Хорошо, хорошо», – передразнил он меня, – а чего ж. Ишь, трех убил глухарей, а напорешься на кого – в ответе я буду.
А жена говорит:
– Да кто здесь ходит?
– А все-таки, – он говорит, – пятнадцать рублей штрафу.
Я говорю:
– У меня пятнадцати рублей нету.
– Нет, дак в тюрьму посадют.
Жена смеется.
– Чего, – говорит она, – Тарлецкий-то не велит, верно, коз стрелять.
– Да разве здесь есть козы?
– Есть, – сказал сторож, – Тарлецкий сам говорил.
– А ты видал?
– Не-ет, я-то не видовал…
Жена, смеясь, говорит:
– Дак никаких коз и нет, а это в прежнем году назад охотники были, господа какие-то, нерусские. Вот были – пьяней вина. Дак верно, им козу пустили, белую, молодую. Вот показали, значит, чтоб в козу стрелять. Ну а она убежала. Видели ее, стреляли, да что, да нешто им охота. Вот они здесь пили. И вино хорошо. Бутылки хлопают, а вино бежит. Жарко было. Дак они прямо бутылки в рот суют. Ну чего, они ничего и не застрелили… Собаки с ними, только собаки за козой не бегут. Она – не дикая, знать, оттого не бегут.
VII
В августе месяце я вернулся в Москву. Сущево. Бедная квартира отца. Отец болен, лежит. Мать все время удручена его болезнью. Отец худой, в красивых глазах его – болезнь.
Жалко мне отца. Он лежит и читает. Кругом него книги. Он был рад меня видеть. Я смотрю – на книге написано: Достоевский. Взял себе одну книгу и читаю. Замечательно…
Пришел брат Сережа. Он жил отдельно с художником Светославским в большом каком-то сарае. Называется – мастерская. Там было хорошо. Светославский писал большую картину – Днепр, а брат мой делал иллюстрации, на которых изображалась мчавшаяся на лошадях кавалерия, разрывающиеся снаряды, ядра – война. Шла война с турками.
– Послезавтра экзамен, – сказал мне брат. – Ты боишься?
– Нет, – говорю, – ничего.