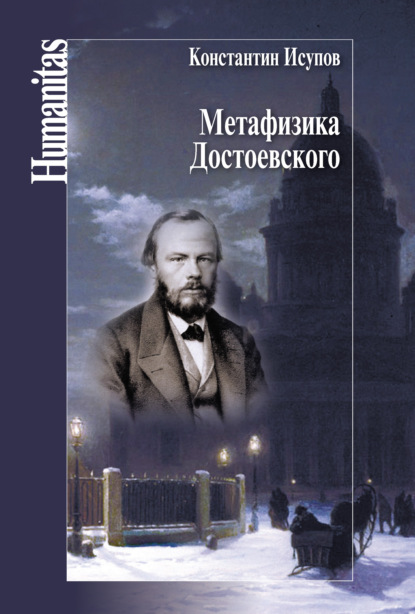По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Метафизика Достоевского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В почитании Богородицы – Матушки и Заступницы, Родительницы мира подчеркнута не Ее девственность, а материнство. Почти неотличимая от Бога-Вседержителя, Она вся – в заботах о дольнем человеке.
Богородица – подлинное Сердце Мира, но этот Её абстрактно-космогонический статус не отменяет живой конкретности Её Лица, обращенного к обыденному миру всей чревной теплотой сочувствия и нежной приязни; достаточно вспомнить иконический канон «умиления».
Вслед за Ф. Буслаевым В. Розанов в эссе «Случай в деревне» (1900) отметил, что «в наиболее строгие эпохи истории Лик Божией Матери отступал, а на первое место почти испуганного воображения выступал Иисус Христос»[29 - Розанов В.В. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. Религия и культура. С. 444.].
Тип Спасителя, выработанный византийской иконографией не позднее IV века, на Руси установился в образе сурового Спаса-Пан-тократора и Судии мира (икона СпасаXVвека в Успенском соборе).
Усиление христоцентрической тенденции имело две стороны.
Во-первых, завышается нравственно-юридический смысл теологем «Страх Божий» и «Deus irae», что объяснимо отчасти успехом в России протестантских доктрин и ересей «голубиного толка». Их отражение памятно по роману А. Белого «Серебряный Голубь» (1910) или по сборникам А. Радловой «Крылатый гость» (1922) и «Богородицын Корабль» (1923). Скажем попутно, что критика юридической концепции активизировало отечественное богословие спасения[30 - Архиеп. Сергий (Страгородский). Православное учение о спасении. Казань, 1898 (М., 1991).].
Во-вторых, «подражание Христу» стало трактоваться как поиск последнего идеального «нового человека» (Еф. 4, 24), взыскующего в дольнем мире новой Земли и нового Неба, а наследно-отеческий «мф», в свою очередь, был принят как безысходный и благодатный вместе, коль скоро всю эту сирую и убогую землю «Царь Небесный исходил, благословляя» (Ф. Тютчев).
В Русском Христе усилены аспекты страдания, причем высокий и неотмирный смысл Голгофы напрямую соотнесен с мирской мукой и повседневными тяготами жизни. В страдании свершается искупление падшего человека. Как известно, Ф. Достоевский считал жажду страдания национальным качеством русского человека, а А. Блок мотив «Радость-Страданье» прочувствовал в своей лирике на предельной высоте религиозного переживания.
В статье «Православие» (1909) П. Флоренский писал: «<…> Русский народ. <…> живет с Христом страдающим, а не с воскресшим и преображенным. <…> Это русский Христос, такой близкий к скудному русскому пейзажу. <…> Это – Христос – друг грешников, убогих, немощных, сирых духом»[31 - Флоренский П.А. Соч.: В 4 т. М., 1994. Т. 1. С. 657.].
Переживая личного Христа в страдании как испытующе-страстном претерпевании плоти, русская вера не теряет в Его образе черт национального Предстоятеля и Промыслителя «русского пути».
Эти акценты составили содержание представлений о «Русском Боге». Выражение это датируется в наших преданиях репликой Мамая по поражении его в Куликовской битве: «Силен Русский Бог!» Можно напомнить патетическую огласовку этой темы у Г. Державина («…Языки, царствуйте! Велик Российский Бог!») и Н. Языкова («Не нашим», 1844) или ироническое – у А. Пушкина («…Барклай, зима, иль Русский Бог?» («Евгений Онегин», X, III)) и П. Вяземского («Русский Бог», 1828).
Христология Серебряного века усилила персоналистские акценты. Протестантски ориентированный богослов М. Тареев создал трактат «Самосознание Христа»; С. Трубецкой в диссертации «Учение о Логосе в его истории» (1900) писал, что двуединая природа Христа осмысляет себя в духовном содружестве Троицы: «Единственное в своем роде нераздельное соединение личного самосознания с Богосознанием в лице Иисуса Христа»[32 - Трубецкой С.Н. Соч. М., 1994. С. 459; курсив автора.].
Его брат, Е.Н. Трубецкой, в статье «Старый и новый национальный мессианизм» (1912) утверждал: «Русский национальный мессианизм всегда выражался в утверждении русского Христа, в более или менее тонкой русификации Евангелия»[33 - Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 334; курсив автора.].
С. Булгаков в «Свете Невечернем» (1917), отстаивал ту мысль, что «интимная и существенная близость Христа человечеству» позволяет понять Его мир не только как «ризу Божества, или космос» (позиция «панхристизма»), но и как «мир сей» в перспективе катастрофического перелома и апокалипсиса спасения.
Н. Бердяев отстаивал позицию антропоцентричности христианства («Философия свободного духа», 1928; «О назначении человека», 1931).
Знаменательны попытки наших мыслителей поставить проблему национальных обликов Христа: «Славянофильское выражение “русский Христос” можно понимать <…> в смысле констатирования того факта, что разные народности, как реально различные между собою, каждая по-своему воспринимает Христа и изменяется от этого приятия. В этом смысле можно говорить (вполне без тени и без всякого кощунства) не только о русском Христе, но и о греческом, об итальянском, о германском, так же как и о национальных святых. <…> Нам, русским, ближе и доступнее именно наш русский Христос, Христос преп. Серафима и преп. Сергия, нежели Христос Бернарда Клервоского или Христос Екатерины Сиенской или даже Франциска Ассизского»[34 - Булгаков С.Н. Два Града. Исследования о природе общественных идеалов. СПб., 1997. С. 342.].
Тем не менее на фоне споров Серебряного века об «историческом христианстве» религиозная мысль робеет перед Христовым Ликом, предпочитая или опыт полуязыческой эмпатии (отраженный в эссе В. Розанова «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира», 1907; ер. возражения Н. Бердяева – «Христос и мир», 1907), или беллетризованные реконструкции Его земной судьбы (Д. Мережковский. Иисус Неизвестный, 1932–1934), толку от которых было не больше, чем от аналогичных опусов многотомного тюбингенца Э. Ренана.
Писать о Богочеловеке – значит писать о личности, и даже о Личности. Русский поп, пишущий о личности, – зрелище, согласитесь, душераздирающее, а потому малопредставимое. В рамках церковной Ограды персонология и антроподицея так и не возникли.
Симптоматичен для эпохи общий упрек, адресованный несколькими рецензентами к П. Флоренскому как автору труда «Столп и утверждение Истины» (1914): «Почему в книге не нашлось место для главы о Христе?»
С тем большим воодушевлением осваивала образ Русского Христа и евангельскую сюжетику в целом изящная словесность. От псалмопевческих переложений она перешла в XIX–XX веках к поэтической христологии (пушкинский замысел драмы «Христос»; Плещеев, Некрасов, Тютчев, Надсон) и к осмыслению эпизодов Евангелия в их эсхатологической напряженности и трагической глубине.
Если карающий и беспощадный Бог Анны Карениной, Вершитель ее совестного суда в одноименном романе Л. Толстого (1873–1877) отчетливо проясняет ветхозаветные черты, то Ф. Достоевский остался на позиции евангельского Христа – глашатая религии любви.
Мистикой сердечного сочувствия страстям Христовым живет герой-праведник «Однодума» (1879; ер. «На краю света», 1875–1876) Н. Лескова и пафосом милосердия – герои тургеневской новеллы «Милостыня».
На рубеже веков возникают философско-эстетические и психологические (о фрейдизме промолчим) транскрипции категории поступка применительно к Священной истории. Поведение человека и мотивации его поступков оказались сложнее, чем ранее думалось, поэтому усложняются в трудах богословов и писателей и оценки поведения, например, апостола Иуды (в «Иуде Искариотском» (1907) Л. Андреева; ер.: Муретов М. Иуда Предатель, 1905; Булгаков С. Иуда Искариот – Апостол-предатель, 1931) и Антихриста (В. Свенцицкий; С. Булгаков; Д. Андреев; А. Мацейна). Цель этих трактовок все та же: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1; Лк. 6:37). Суд над антагонистами Христа свершается в непосредственном переживании события, которое произошло только что, вот-вот, здесь и сейчас.
О. Мандельштам в трактате «Разговор о Данте» (1933) писал, что современники великого флорентийца воспринимали Библию как экстренный выпуск газеты. В полной мере эту реплику можно отнести к русскому опыту поэтического евангелизма.
Конечно, не обошлось и без «ересей». Употребим это слово вне контекстов осуждения: поэт, даже и христианский, всегда немножко «еретик», если он не пономарь, озвучивающий Псалтырь (как некоторые новоявленные псалмопевцы).
В новокрестьянской поэзии воскрешаются мотивы «мужицкого Христа» (Н. Клюев, С. Есенин), а в опусах символистского толка развернут Апокалипсис Второго пришествия (ранние «Симфонии» A. Белого; «Эсхатологическая мозаика» П. Флоренского; лирика Ф. Сологуба, Д. Мережковского, 3. Гиппиус, М. Волошина). Актуализуется старинная апокалиптика Третьего Завета иоахимитского толка (А. Шмидт; оккультные школы; теософы всех мастей; псевдорелигии, вроде рериховской клоунады).
Особую мифологию «экуменического» Русского Христа создал B. Хлебников; эсхатологическая концепция Мессии предъявлена в «Розе Мира» (1950-е годы) и в лирике Д. Андреева.
Амбивалентный (ценностно обратимый) характер русского человека выразил себя в образах чёрта, «соблазненного» светом Христовой Истины (от галлюцинаторного собеседника Ивана Карамазова до героя романа В.В. Орлова «Альтист Данилов», 1980). Чёрт, увлеченный деланием добра – это что-то новое. Но это наш, Русский Чёрт, он в той же (апофатической, т. е. отрицательно-утвердительной) манере отражает характер ко всему готового русского человека, в какой отражает его и Русский Бог.
От пушкинской «бездны мрачной на краю» до «хоть немного еще постою на краю!» нашего певца-современника живет в русском поэтическом сознании память особого религиозно-этического риска. Она, эта ближняя память, говорит человеку: добро и зло находятся на равном от тебя расстоянии, и лишь от тебя зависит добровольный выбор меж прямым путем Христа и кривым, бесовским блудом блуждания в море страстей человеческих.
Показателен путь Блока от Христа, буквально, «биографически» пережитого в образах Голгофы («Пред ликом Родины суровой / Я закачаюсь на кресте»), к Христу мужицкому, а к финалу жизни – к жутковатому монстру-антиподу его – «Христу-Антихристу» поэмы «Двенадцать» (1918).
Богочеловеческая, а точнее – человекобожеская тема нашла себя и в идеологии пролетарской культуры (А. Платонов: «Христос и мы», 1920; «О нашей религии», «Новое Евангелие»), и в движении «богостроительства». Это были наивные и трагические по своим последствиям потуги «приспособить» Нагорную проповедь к «Моральному кодексу строителя коммунизма» (вплоть до прямых цитаций).
Христоцентричное сознание XX века пытается сохранить образ Спасителя в возможной полноте христианского мирочувствия, – в религиозной публицистике С. Аскольдова, Ивана и Владимира Ильиных, Б. Зайцева, статьях и стихах Е. Кузьминой-Караваевой, в прозе И. Шмелева, в лирике А. Ахматовой и Б. Пастернака. Легко убедиться в этом и на творчестве наших и недавно ушедших, и ныне здравствующих поэтов-современников: по-византийски велелепного и трагически-серьезного москвича С. Аверинцева; петербуржца А. Кушнера с его тонкой грустью.
Таков минимальный исторический фон, на котором внятнее становится та непременность сюжетной оглядки и живого отклика на вечные события Евангелия, которую русское художественное сознание столь органично, столь естественно вменило себе в жанровую обязанность.
Не только храмовая Литургия, не только молитвенное предстояние иконе, не только соприсутствие Таинствам каждый раз заново воскрешают в нашей памяти события Евангелия.
Свою нелегкую и духовно рискованную работу свершает в этой области и культура – в том числе и культура художественного слова.
Она питается Немеркнущим Светом евангельской Истины и как может усиливает его в надежде на наше «сочувственное внимание» (М. Пришвин). Навеки заповедано нам: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1,5).
В сложных процессах становления отечественной философско-религиозной и художественной христологии роль Достоевского трудно переоценить.
Христоморфизм. Герой как живая икона
Когда говорят о Достоевском – художнике идеи, о его герое-идеологе, имеют в виду нечто, напоминающее позицию средневекового «реализма», с каковой, в пику «номиналистам», утверждалось, что общие идеи существуют реально и обладают специфическим бытием. С другой стороны, поэтика романного образа героя – носителя идеи еще более напоминает средневековую же, неоплатонически окрашенную, византийскую эстетику тождества образа и прообраза в иконе. По ее постулату, иконное изображение не является условным образом Кого-то, но есть этот или эта «Кто-то», явленное наяву во всей полноте безусловного существования. Иконопись, в отличие от портрета, лишена категории условности. В автопортрете мы видим не автора, но образ автора; в иконе «Моление о Чаше» мы ad realiora соприсутствуем Гефсиманской молитве в момент ночного борения Христа с предощущением неотменяемой Голгофы.
Богородица – подлинное Сердце Мира, но этот Её абстрактно-космогонический статус не отменяет живой конкретности Её Лица, обращенного к обыденному миру всей чревной теплотой сочувствия и нежной приязни; достаточно вспомнить иконический канон «умиления».
Вслед за Ф. Буслаевым В. Розанов в эссе «Случай в деревне» (1900) отметил, что «в наиболее строгие эпохи истории Лик Божией Матери отступал, а на первое место почти испуганного воображения выступал Иисус Христос»[29 - Розанов В.В. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. Религия и культура. С. 444.].
Тип Спасителя, выработанный византийской иконографией не позднее IV века, на Руси установился в образе сурового Спаса-Пан-тократора и Судии мира (икона СпасаXVвека в Успенском соборе).
Усиление христоцентрической тенденции имело две стороны.
Во-первых, завышается нравственно-юридический смысл теологем «Страх Божий» и «Deus irae», что объяснимо отчасти успехом в России протестантских доктрин и ересей «голубиного толка». Их отражение памятно по роману А. Белого «Серебряный Голубь» (1910) или по сборникам А. Радловой «Крылатый гость» (1922) и «Богородицын Корабль» (1923). Скажем попутно, что критика юридической концепции активизировало отечественное богословие спасения[30 - Архиеп. Сергий (Страгородский). Православное учение о спасении. Казань, 1898 (М., 1991).].
Во-вторых, «подражание Христу» стало трактоваться как поиск последнего идеального «нового человека» (Еф. 4, 24), взыскующего в дольнем мире новой Земли и нового Неба, а наследно-отеческий «мф», в свою очередь, был принят как безысходный и благодатный вместе, коль скоро всю эту сирую и убогую землю «Царь Небесный исходил, благословляя» (Ф. Тютчев).
В Русском Христе усилены аспекты страдания, причем высокий и неотмирный смысл Голгофы напрямую соотнесен с мирской мукой и повседневными тяготами жизни. В страдании свершается искупление падшего человека. Как известно, Ф. Достоевский считал жажду страдания национальным качеством русского человека, а А. Блок мотив «Радость-Страданье» прочувствовал в своей лирике на предельной высоте религиозного переживания.
В статье «Православие» (1909) П. Флоренский писал: «<…> Русский народ. <…> живет с Христом страдающим, а не с воскресшим и преображенным. <…> Это русский Христос, такой близкий к скудному русскому пейзажу. <…> Это – Христос – друг грешников, убогих, немощных, сирых духом»[31 - Флоренский П.А. Соч.: В 4 т. М., 1994. Т. 1. С. 657.].
Переживая личного Христа в страдании как испытующе-страстном претерпевании плоти, русская вера не теряет в Его образе черт национального Предстоятеля и Промыслителя «русского пути».
Эти акценты составили содержание представлений о «Русском Боге». Выражение это датируется в наших преданиях репликой Мамая по поражении его в Куликовской битве: «Силен Русский Бог!» Можно напомнить патетическую огласовку этой темы у Г. Державина («…Языки, царствуйте! Велик Российский Бог!») и Н. Языкова («Не нашим», 1844) или ироническое – у А. Пушкина («…Барклай, зима, иль Русский Бог?» («Евгений Онегин», X, III)) и П. Вяземского («Русский Бог», 1828).
Христология Серебряного века усилила персоналистские акценты. Протестантски ориентированный богослов М. Тареев создал трактат «Самосознание Христа»; С. Трубецкой в диссертации «Учение о Логосе в его истории» (1900) писал, что двуединая природа Христа осмысляет себя в духовном содружестве Троицы: «Единственное в своем роде нераздельное соединение личного самосознания с Богосознанием в лице Иисуса Христа»[32 - Трубецкой С.Н. Соч. М., 1994. С. 459; курсив автора.].
Его брат, Е.Н. Трубецкой, в статье «Старый и новый национальный мессианизм» (1912) утверждал: «Русский национальный мессианизм всегда выражался в утверждении русского Христа, в более или менее тонкой русификации Евангелия»[33 - Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 334; курсив автора.].
С. Булгаков в «Свете Невечернем» (1917), отстаивал ту мысль, что «интимная и существенная близость Христа человечеству» позволяет понять Его мир не только как «ризу Божества, или космос» (позиция «панхристизма»), но и как «мир сей» в перспективе катастрофического перелома и апокалипсиса спасения.
Н. Бердяев отстаивал позицию антропоцентричности христианства («Философия свободного духа», 1928; «О назначении человека», 1931).
Знаменательны попытки наших мыслителей поставить проблему национальных обликов Христа: «Славянофильское выражение “русский Христос” можно понимать <…> в смысле констатирования того факта, что разные народности, как реально различные между собою, каждая по-своему воспринимает Христа и изменяется от этого приятия. В этом смысле можно говорить (вполне без тени и без всякого кощунства) не только о русском Христе, но и о греческом, об итальянском, о германском, так же как и о национальных святых. <…> Нам, русским, ближе и доступнее именно наш русский Христос, Христос преп. Серафима и преп. Сергия, нежели Христос Бернарда Клервоского или Христос Екатерины Сиенской или даже Франциска Ассизского»[34 - Булгаков С.Н. Два Града. Исследования о природе общественных идеалов. СПб., 1997. С. 342.].
Тем не менее на фоне споров Серебряного века об «историческом христианстве» религиозная мысль робеет перед Христовым Ликом, предпочитая или опыт полуязыческой эмпатии (отраженный в эссе В. Розанова «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира», 1907; ер. возражения Н. Бердяева – «Христос и мир», 1907), или беллетризованные реконструкции Его земной судьбы (Д. Мережковский. Иисус Неизвестный, 1932–1934), толку от которых было не больше, чем от аналогичных опусов многотомного тюбингенца Э. Ренана.
Писать о Богочеловеке – значит писать о личности, и даже о Личности. Русский поп, пишущий о личности, – зрелище, согласитесь, душераздирающее, а потому малопредставимое. В рамках церковной Ограды персонология и антроподицея так и не возникли.
Симптоматичен для эпохи общий упрек, адресованный несколькими рецензентами к П. Флоренскому как автору труда «Столп и утверждение Истины» (1914): «Почему в книге не нашлось место для главы о Христе?»
С тем большим воодушевлением осваивала образ Русского Христа и евангельскую сюжетику в целом изящная словесность. От псалмопевческих переложений она перешла в XIX–XX веках к поэтической христологии (пушкинский замысел драмы «Христос»; Плещеев, Некрасов, Тютчев, Надсон) и к осмыслению эпизодов Евангелия в их эсхатологической напряженности и трагической глубине.
Если карающий и беспощадный Бог Анны Карениной, Вершитель ее совестного суда в одноименном романе Л. Толстого (1873–1877) отчетливо проясняет ветхозаветные черты, то Ф. Достоевский остался на позиции евангельского Христа – глашатая религии любви.
Мистикой сердечного сочувствия страстям Христовым живет герой-праведник «Однодума» (1879; ер. «На краю света», 1875–1876) Н. Лескова и пафосом милосердия – герои тургеневской новеллы «Милостыня».
На рубеже веков возникают философско-эстетические и психологические (о фрейдизме промолчим) транскрипции категории поступка применительно к Священной истории. Поведение человека и мотивации его поступков оказались сложнее, чем ранее думалось, поэтому усложняются в трудах богословов и писателей и оценки поведения, например, апостола Иуды (в «Иуде Искариотском» (1907) Л. Андреева; ер.: Муретов М. Иуда Предатель, 1905; Булгаков С. Иуда Искариот – Апостол-предатель, 1931) и Антихриста (В. Свенцицкий; С. Булгаков; Д. Андреев; А. Мацейна). Цель этих трактовок все та же: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1; Лк. 6:37). Суд над антагонистами Христа свершается в непосредственном переживании события, которое произошло только что, вот-вот, здесь и сейчас.
О. Мандельштам в трактате «Разговор о Данте» (1933) писал, что современники великого флорентийца воспринимали Библию как экстренный выпуск газеты. В полной мере эту реплику можно отнести к русскому опыту поэтического евангелизма.
Конечно, не обошлось и без «ересей». Употребим это слово вне контекстов осуждения: поэт, даже и христианский, всегда немножко «еретик», если он не пономарь, озвучивающий Псалтырь (как некоторые новоявленные псалмопевцы).
В новокрестьянской поэзии воскрешаются мотивы «мужицкого Христа» (Н. Клюев, С. Есенин), а в опусах символистского толка развернут Апокалипсис Второго пришествия (ранние «Симфонии» A. Белого; «Эсхатологическая мозаика» П. Флоренского; лирика Ф. Сологуба, Д. Мережковского, 3. Гиппиус, М. Волошина). Актуализуется старинная апокалиптика Третьего Завета иоахимитского толка (А. Шмидт; оккультные школы; теософы всех мастей; псевдорелигии, вроде рериховской клоунады).
Особую мифологию «экуменического» Русского Христа создал B. Хлебников; эсхатологическая концепция Мессии предъявлена в «Розе Мира» (1950-е годы) и в лирике Д. Андреева.
Амбивалентный (ценностно обратимый) характер русского человека выразил себя в образах чёрта, «соблазненного» светом Христовой Истины (от галлюцинаторного собеседника Ивана Карамазова до героя романа В.В. Орлова «Альтист Данилов», 1980). Чёрт, увлеченный деланием добра – это что-то новое. Но это наш, Русский Чёрт, он в той же (апофатической, т. е. отрицательно-утвердительной) манере отражает характер ко всему готового русского человека, в какой отражает его и Русский Бог.
От пушкинской «бездны мрачной на краю» до «хоть немного еще постою на краю!» нашего певца-современника живет в русском поэтическом сознании память особого религиозно-этического риска. Она, эта ближняя память, говорит человеку: добро и зло находятся на равном от тебя расстоянии, и лишь от тебя зависит добровольный выбор меж прямым путем Христа и кривым, бесовским блудом блуждания в море страстей человеческих.
Показателен путь Блока от Христа, буквально, «биографически» пережитого в образах Голгофы («Пред ликом Родины суровой / Я закачаюсь на кресте»), к Христу мужицкому, а к финалу жизни – к жутковатому монстру-антиподу его – «Христу-Антихристу» поэмы «Двенадцать» (1918).
Богочеловеческая, а точнее – человекобожеская тема нашла себя и в идеологии пролетарской культуры (А. Платонов: «Христос и мы», 1920; «О нашей религии», «Новое Евангелие»), и в движении «богостроительства». Это были наивные и трагические по своим последствиям потуги «приспособить» Нагорную проповедь к «Моральному кодексу строителя коммунизма» (вплоть до прямых цитаций).
Христоцентричное сознание XX века пытается сохранить образ Спасителя в возможной полноте христианского мирочувствия, – в религиозной публицистике С. Аскольдова, Ивана и Владимира Ильиных, Б. Зайцева, статьях и стихах Е. Кузьминой-Караваевой, в прозе И. Шмелева, в лирике А. Ахматовой и Б. Пастернака. Легко убедиться в этом и на творчестве наших и недавно ушедших, и ныне здравствующих поэтов-современников: по-византийски велелепного и трагически-серьезного москвича С. Аверинцева; петербуржца А. Кушнера с его тонкой грустью.
Таков минимальный исторический фон, на котором внятнее становится та непременность сюжетной оглядки и живого отклика на вечные события Евангелия, которую русское художественное сознание столь органично, столь естественно вменило себе в жанровую обязанность.
Не только храмовая Литургия, не только молитвенное предстояние иконе, не только соприсутствие Таинствам каждый раз заново воскрешают в нашей памяти события Евангелия.
Свою нелегкую и духовно рискованную работу свершает в этой области и культура – в том числе и культура художественного слова.
Она питается Немеркнущим Светом евангельской Истины и как может усиливает его в надежде на наше «сочувственное внимание» (М. Пришвин). Навеки заповедано нам: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1,5).
В сложных процессах становления отечественной философско-религиозной и художественной христологии роль Достоевского трудно переоценить.
Христоморфизм. Герой как живая икона
Когда говорят о Достоевском – художнике идеи, о его герое-идеологе, имеют в виду нечто, напоминающее позицию средневекового «реализма», с каковой, в пику «номиналистам», утверждалось, что общие идеи существуют реально и обладают специфическим бытием. С другой стороны, поэтика романного образа героя – носителя идеи еще более напоминает средневековую же, неоплатонически окрашенную, византийскую эстетику тождества образа и прообраза в иконе. По ее постулату, иконное изображение не является условным образом Кого-то, но есть этот или эта «Кто-то», явленное наяву во всей полноте безусловного существования. Иконопись, в отличие от портрета, лишена категории условности. В автопортрете мы видим не автора, но образ автора; в иконе «Моление о Чаше» мы ad realiora соприсутствуем Гефсиманской молитве в момент ночного борения Христа с предощущением неотменяемой Голгофы.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: