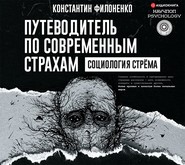По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путеводитель по современным страхам. Социология стрёма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В конце каждый из присутствующих заканчивал свой кайдан рассказом о собственном опыте столкновения со сверхъестественным и задувал свечу. Получается, что после завершающего кайдана комната полностью погружалась в темноту (оставляя сотню напуганных людей наедине с вызванными ими демонами).
История развития японского «повествования о необычайном» имеет ряд особенностей, которые позволяют считать кайдан своего рода моделью (или, как минимум, одной из главных моделей) развития японской литературы и культуры в целом[2 - Г. Б. Дуткина «Душа Японии» в зеркале японского кайдана. Японские исследования. 2016. № 3.].
Традиционные японские верования переплетались с буддизмом. Во многом религиозная эстетика дзэн-буддизма выразилась в идее о чистоте кармы, о том, как важно совершать добро, несмотря ни на какие трудности. Например, легенда «Опасный кот по кличке Донгоросу» повествует о бродячем коте, с раннего возраста отвергнутом не только людьми, но и своими собратьями-зверьми. Однажды Донгоросу встречает доброго старика, который подкармливает его и своим примером показывает, что нужно оставаться добрым в любой жизненной ситуации. После смерти старика Донгоросу продолжает выполнять его работу – следить за детьми, переходящими через дорогу. Но в конце кот бесследно исчезает, а дети беспокоятся, куда же он пропал. Открытый финал указывает на необходимость домыслить самому то, что могло случиться с Донгоросу, что близко такому эстетическому принципу, как югэн. Югэн означает интуитивное восприятие сущности объекта. Очевидное сменяется потаенным; конечную реальность, скрытую за предметом, нельзя точно определить, глубинные чувства нельзя изобразить на лице, выразить прямо, можно лишь намекнуть на них, дать знать об их существовании, чтобы зритель или читатель смог узнать их в себе, своем опыте.
Упомянутые выше особенности японского мировоззрения, помноженные на буддийский мистицизм и остатки первобытных верований, сместили фокус сверхъестественного ужаса в японской культуре: сам потусторонний объект не так страшен, как иррациональная модификация привычных форм. Эта модификация обрела свое имя – обакэ (от глагола бакэру – превращаться, трансформироваться). Обакэ принято называть все сверхъестественные сущности и явления.
Данная концепция в свою очередь породила мириады демонов, духов и бесов всех форм и размеров. Например, ранее упомянутые цукумогами – не злые предметы-убийцы. Это лишь очень старая вещь, существующая более ста лет. Но, согласно сингону – одной из буддистских школ, – все вещи обладают душой, а достаточно древние начинают обладать еще и характером и индивидуальностью. А какая у них будет индивидуальность – зависит от окружения и поведения этого самого окружения. Если хозяин никогда не ухаживал за парой соломенной обуви и не научил правилам ухода своих потомков, то однажды сандалия оживет, выпустит длинные тонкие ноги с куриными лапами вместо стоп, раскроет единственный глаз и будет ходить ночами по дому, напевая о важности ухода за обувью. Поскольку такие существа бессмертны, предполагается, что наблюдать это будут поколения. Очень поучительная история о том, как важно ухаживать за вещами.
Развитие и распространение кайдана совпало сначала с массовым распространением литературы, которая больше не была доступна только избранным. После Второй мировой войны в кайдане произошел резкий прорыв границ жанра. Высокое искусство и сфера развлечений окончательно дистанцировались, в результате чего в послевоенной Японии расцвела андеграунд-культура. Журналы изобиловали эротическими и фантастическими кайданами. Однако центром «индустрии кайдана» стал стремительно развивавшийся кинематограф. Ведущие киностудии Японии начинают массово экранизировать классику литературного кайдана, в котором переплетаются все необходимые компоненты успеха – эротика, ужас и эстетизация смерти.
В 1953 году режиссер Мидзогути Кэндзи получает Серебряного льва на Венецианском кинофестивале за экранизацию «Сказок туманной луны после дождя». Следом режиссер Кобаяси Масаки за фильм «Квайдан» (экранизация четырех новелл Лафкадио Хирна) награждается специальным призом жюри на Каннском кинофестивале (1965). Кайдан и японские призраки, духи, привидения и чудовища, впервые явленные западному миру в англоязычном произведении Лафкадио Хирна, выходят на широкую арену как чисто японский культурный феномен, демонстрируя результаты национальной культурной адаптации.
Япония лидирует в производстве не только кино, но и игр жанра хоррор. Clock Tower – игра, вышедшая в 1995 году и ставшая первым представителем жанра. Затем выходят Resident Evil и, конечно, Silent Hill. В каждой из этих трех игр прослеживается влияние традиционного японского ужаса.
«Локализованные» крипипасты пришли не только из Японии; достаточно многие из них – американские.
Например, одна из самых популярных крипипаст «Тупик пустот» – это российская локализация рассказа Стивена Кинга «Крауч-Энд». Отечественная версия довольно подробно пересказывает сюжет рассказа, однако он представлен не от третьего лица, как оригинал, а от первого. Главный герой – милиционер, во время дежурства которого ППС нашла перепуганную женщину, которая заявила о пропаже мужа при странных обстоятельствах. Любопытно было бы провести сопоставление этих двух текстов. Кинговская история описывает всю мрачную странность, которую могут испытывать американцы в Лондоне – городе, где говорят на таком же языке, но одновременно и немного другом, где такие же улицы и дома, но при этом все отличается. Это параллельное, искаженное и при этом более древнее пространство. Кинг говорил о том, что идея рассказа, где заблудившаяся семейная пара американцев во время путешествия вдруг проваливается в Лондон как в параллельный мир, была вдохновлена его собственной поездкой в этот город с женой. Писатель разглядел в Лондоне именно такую паранормальную опасность. Соединив это странное озарение с «Мифами Ктулху» Говарда Лавкрафта (отсылка в тексте рассказа честно поставлена), Кинг получает почти образцовый рассказ ужасов, весь посыл которого довольно откровенно объяснен автором словами одного из персонажей:
Лавкрафт всегда писал о других измерениях ‹…›, которые находятся далеко от наших. В них полно бессмертных чудовищ, которые одним взглядом могут свести человека с ума. Жуткий вздор, правда? Если не считать тех случаев, когда кто-то попадает туда, я думаю, что все это могло быть правдой. Тогда, когда вокруг тишина и стоит поздняя ночь, как сейчас, я говорю себе, что весь наш мир, все, о чем мы думаем, приятное, обыкновенное и разумное – все это похоже на большой кожаный мяч, наполненный воздухом. Только в некоторых местах кожа эта протерлась почти насквозь.
Что же в российской крипипасте? Сюжет подан в виде милицейской байки о странном случае во время дежурства: семейная пара пошла поесть в один из московских ресторанов в районе Китай-города, оставив машину в одном из переулков (примета времени). Уже ночью, по пути обратно к машине, они попадают в непонятное пространство, в котором мужчина бесследно исчезает. Рассказ от первого лица добавляет в историю правдоподобия, а на месте литературоведческой беседы о природе бытия стоит очень конкретное рассуждение о пропаже людей:
…про пропащих людей стоит сказать отдельно: просто так люди никуда не исчезают. Люди пропадают, но потом их находят. Как правило, по весне, всплывшими. И обычно у человека есть предыстория: окружение (нарк человек или еще что-то), род деятельности (частный кредитор) и так далее. Но вот чтобы так, обычный человек в центре оживленного города на глазах своей жены растворился в воздухе, таких историй почти нет. Почти.
Этими двумя отрывками можно проиллюстрировать разницу между авторским литературным произведением и сетевой крипипастой. Заимствуя сюжет и даже почти что персонажей, крипипаста укрепляет всю конструкцию, чтобы сделать ее более реалистичной. Она переносится в уста оперативника – представителя власти, обогащается деталями Москвы начала 2000-х и в конце концов лишается прекрасных литературных отсылок, оставляя только мотив пропажи человека. В какой-то момент читатель должен не просто погрузиться в предлагаемый рассказ, а начать сопоставлять историю со своим опытом, вспоминать заброшенные дома в центре города, объявления о пропаже людей. Именно на границе вымышленного мира рассказа Стивена Кинга и повседневного бытования китайгородских переулков должно закрасться сомнение в том, а так ли вымышлен потусторонний, параллельный мир. Вернее, граница между нашим миром и вымышленным описывается так четко, что через нее можно посмотреть (как сквозь протертую материю).
Детская крипипаста
Если набрать «крипипаста» в поисковике на ютубе или в соцсетях, можно заметить, что часто под этим словом имеется в виду что-то совсем другое. Можно наткнуться на рейтинги «Топ персонажей крипипаст», различные рисунки, а также не связанные с темой ужасов рассказы, в которых фигурируют различные персонажи крипипаст (например, Слендермен или убийца Джефф, Бен-утопленник), но рассказы не будут связаны с темой страхов и ужасов.
Для детей, родившихся в XXI веке, крипипасты – это способ собственного творчества, который не обязательно связан с «классическими» страшилками. Мы наблюдаем, как трансформировалась потребность в страшном фольклоре у детей. Раньше страшные истории рассказывались в пионерских лагерях из-за специфической функции инициации, перехода в новый возраст, которую летние лагеря имели в обществе. Кроме того, изменилось изображение «легитимного страшного» в популярной культуре для детей. В качестве примера можно привести такой мультфильм, как «Hotel Transylvania» («Монстры на каникулах» в российском прокате) или игрушки Monster High – страшные образы претерпевают своеобразную «гламуризацию» своих страшных составляющих. Также свою роль играет разнообразие и доступность любых сюжетов в интернете, что разрушает «локус» детского рассказывания страшилок (то есть больше нет специфического места и ситуаций только для этого) – фольклористы фиксируют, что дети узнают о страшных не из личного общения и специализированной художественной литературы, а через «желтую» прессу, интернет-дискуссии, а также фан-арт, созданный преимущественно такими же детьми.
Именно этим можно объяснить современный вид детского страшного фольклора – этакий плавильный котел, в котором смешиваются очень разные части популярной культуры, городских легенд, а также самостоятельного детского творчества. Важно, что интернет-сообщества учат детей рассказывать и писать – в отдельных ветках и постах можно выложить свою историю, и все другие будут оценивать, как она написана (прежде всего по параметру страшно/не страшно), что довольно подробно воспроизводит традицию устного рассказывания историй, но в ином контексте. Как бы в подтверждение этого тезиса популярность набирают видеоролики, а также специальные «конференции», направленные исключительно на страшный контент.
Стоит сказать, что разнообразные «коллекционеры» или «обзорщики» жанра «крипипаста» и интернет-фольклора в целом недолюбливают «детские» крипипасты – прежде всего «за отсутствие атмосферы», а также чрезмерную концентрацию на персонажах и добавление в привычные сюжеты новых, не имеющих отношения к страшному, деталей вроде взаимоотношений героев или описаний их быта.
Такая «профанизация», очеловечивание (то есть нейтрализация возможного вреда, который может нанести персонаж крипипасты) является способом работы со страхом и его преодолением. Поэтому, согласно фольклористским источникам, дети описывают персонажей крипипаст как что-то вполне реальное, с чем возможно взаимодействовать. Иногда это приводит к трагедиям – в 2014 году было по меньшей мере три несчастных случая в США, которые напрямую связаны со страхом детей перед Слендерменом – тощим высоким персонажем в строгом костюме без лица, который живет в лесу (и был придуман в 2009 году). Девочка во Флориде подожгла свой дом и обвинила в этом Слендермена, а в Огайо «одержимая» Слендерменом девочка напала с ножом на свою собственную мать. Но самый известный случай произошел в Висконсине: там две 13-летние девочки заманили свою подругу в лес под видом игры в прятки и 19 раз ударили ее ножом. Несмотря на тяжелые раны, девочка выжила и даже смогла самостоятельно выбраться из леса, где ее заметил велосипедист и вызвал подмогу. Последующее разбирательство показало, что девочки долгое время планировали убийство. Они сделали это, потому что прочитали подробную инструкцию о том, как принести жертву Слендеру, чтобы стать его «фаворитками» и поселиться с ним в лесу. Одна из участниц ритуала говорила, что не хотела этого делать, «но боялась того, что может случиться, если этого не сделать, и я не хочу знать, что могло бы случиться, если бы мы не сделали этого». Об этом случае есть документальный фильм HBO, который называется «Beware the slenderman». Это экстремальные случаи, но они вписываются в модель работы со страшными персонажами – те случаи, когда произошло слишком сильное «размытие границ» воображаемого и реального, без которого не работает жанр ужасов, а также не функционирует общество в целом, – те самые игры, о которых пишет Ирвинг Гоффман.
Фольклористка Эста Матвеева разделяет способы «работы» со страшным персонажем по параметрам отношения с пространством:
– ребенок в «своем» пространстве соприкасается с персонажем – объектом страха посредством фантазии (фактического взаимодействия не происходит), провоцирующей в нем необходимый эмоциональный отклик – практика рассказывания страшных историй,
– сокращение дистанции между человеком и персонажем происходит на следующем этапе, когда ребенок выходит из зоны комфорта (из «своего» пространства) и, рискуя собственной безопасностью (как он считает), отправляется к персонажу в «чужое» пространство – практика посещение запретных «страшных мест»,
– третья практика сокращает дистанцию между человеком и персонажем в обратном направлении, за счет сознательного переманивания человеком объекта страха в «свое» пространство – практика вызывания страшного персонажа.
Также способы работы с персонажем могут рассматриваться как self-help ребенка. Как и взрослые, дети создают произведения (тексты или рисунки) для борьбы со своей тревогой. Это преодоление страхов и одновременно проработка взаимодействия с потусторонними силами в целом. Эста Матвеева выделяет шесть механизмов преодоления страха через фольклорное:
1) Борьба со страхами через проговаривание своего страха, разговоры о нем. По сути, это возможность в безопасной обстановке прикоснуться в своих фантазиях к «страшному», будучи при этом защищенным в реальном мире[3 - Осорина М. В. «Черная простыня летит по городу», или Зачем дети рассказывают страшные истории // Знание – сила. № 10. СПб., 1986.]. «Посредством страшных историй дети получают возможность контролировать и бороться со страхом неизвестного. Ребенок, который действительно боится скрывающихся в темноте монстров, способен в некоторой степени побороть свой страх, если сможет контролировать неизвестного монстра, заманив его в матрицу сюжетов»[4 - Grider S. Childrens ghost stories // Haunting Experiences: ghosts in contemporary folklore. Utah State University Press, 2007.].
Чем чаще и подробнее описывать то, чего ты боишься, тем больше вероятность, что его сила как страшного объекта начнет уменьшаться. Возможно, этим объясняется некоторая «ротация» страшных образов – слишком много раз повторенная история о «гробе на колесиках» перестает пугать, уже моему поколению было сложно объяснить, что в этом такого страшного, страшное «стерлось» о частое повторение.
2) Борьба со страхами через непосредственное столкновение – ребенок или группа детей отправляется непосредственно в «страшное место» (кладбище, заброшенный дом, жуткая подворотня и т. п.). Основное условие того, что подобное действие может быть эффективным способом работы с пугающим, – это «вера в то, что легенда может быть чем-то большим, чем просто вымышленной историей»[5 - Kinsella M. Legend-Tripping Online: Supernatural Folklore and the Search for Ong’s Hat. University Press of Mississippi, 2011.]. Такой поход в страшное место – это доказательство своей смелости, демонстрация отсутствия страха окружающим, себе и, в конце концов, – объекту страха. В таком преодолении себя усматриваются мотивы инициации: «Никто точно не знает, каков будет исход инициации, и страшно представить себе худший из возможных результатов»[6 - Tucker E. Tales and Legends // Children’s folklore. Brian Sutton-Smith, Jay Mechling, Thomas W. Johnson, Felicia R. McMahon. Utah State University Press. 1999.]. Таким образом, Элизабет Такер показывает, что эта практика – важный этап для перехода в более старшую группу подростков.
3) Похожий на предыдущий способ – призыв или вызов персонажа. Осуществляется через найденные в интернете инструкции по проведению «ритуала». Однако такой способ не имеет явно выраженной социальной или инициационной функции – он направлен исключительно на переживание определенных эмоций и, соответственно, преодоление их.
4) Борьба со страшным через смех – самый яркий пример такой работы со страшным – так называемые садистские стишки («маленький мальчик по стройке гулял…»). «…Они, травестируя ужасное, подвергая его почти кощунственному осмеянию, выполняют своеобразную психотерапевтическую функцию, ослабляя сакральные страхи ребенка, подростка»[7 - Трыкова О. Ю. О современном состоянии жанров детского фольклора // Ярославский педагогический вестник. – Ярославль, 2001. № 3/4. С. 104.]. Именно так трансформируется «канонический» интернет-фольклор в детских сообществах о крипипастах – в пародийных или даже карикатурных воплощениях тот же Слендермен выглядит не как персонаж ужасов, а как персонаж анимации для детей («няшно»).
5) Борьба со страхом через попытку умилостивить страшного персонажа, заслужить его доверие или симпатию – именно это произошло с девочками из Висконсина. Подрост-ки опасались, что если они не принесут в жертву свою подругу, то убийца придет за ними, так как основная его функция в текстах страшных историй – кража и убийство детей. Опять же, это экстремальный случай, обычно все ограничивается воспроизведением мотивов из страшилок – развешиванием надписей или рисунков в лесу, созданием кукол и тому подобное.
6) Идентификация себя со страшным персонажем – именно этим занимаются дети на Хэллоуин: переодеваются и ведут себя как персонаж, который больше всего их пугает, чтобы наконец избавиться от этого страха. Этот механизм упомянула в своей работе американская исследовательница Линда Дег – дети надевают костюмы монстров на Хэллоуин, чтобы защититься от «нечистой силы»: «Идентификация себя с ужасающим объектом становится эффективной защитой от него»[8 - Degh L. Does the Word «Dog» Bite? Ostensive Action: A Means of Legend-Telling // Journal of Folklore Research. Vol. 20, No.1. Indiana University Press, 1983.].
7) Последний способ – это попытка вступить в близкие отношения с персонажем крипипасты.
Этот способ наглядно демонстрирует фрагмент из интервью Эсты Матвеевой с девочкой 12 лет:
Я помню всегда, когда мне казалось что-то страшное, вот я вот сижу на балконе и мне вот кажется, что-то кто-то ко мне вот сейчас прилетит или вот что-нибудь такое. И я вот всегда, когда было ощущение, что он стоит рядом, я всегда старалась с ним подружиться, я с ним говорила. [Это как?] Ну, я вот так сижу, просто темно, вот такая сижу, и слышу какие-то шорохи, я про себя, в уме что-то там говорю, типа, поздороваюсь с ним, спрашиваю, как его зовут. [Зачем ты так делала?] Я всегда думала, что если с ним подружишься, то он ничего не сделает, вот. Ну, для меня это было как самоуспокоение, типа, я с ним поздоровалась, подружилась, он мне ничего не сделает, я со спокойной душой уходила домой, что он не будет меня преследовать. Я думала, сейчас, если я просто убегу, он пойдет за мной.
«Детская», персонажная крипипаста – это, безусловно, тема для отдельного исследования. Даже по тем элементам анализа этой темы, которые показаны выше, видно, насколько это большой и важный пласт жизни ребенка и подростка. Однако дальше мы будем говорить о крипипасте в классическом ее понимании – страшная история как она есть, не обязательно основанная на персонажах, но, безусловно, имеющая отношение к коллективным страхам. Через мотивы, которые описаны в историях, приведенных далее, я попытаюсь показать что говорят о нас образы, с помощью которых мы пытаемся испугаться сами и напугать других.
Сеть
Несмотря на то, что все разбираемые здесь вещи происходят в интернете и выделять Сеть в отдельную тему является своеобразной тавтологией, все же это отдельное направление сюжетов страшных историй. Довольно большая часть историй посвящена страхам, связанным с интернетом. Я бы выделил три их основных типа:
– описывающие то, как интернет себя проявляет, – мессенджеры, сайты, файлы;
– описывающие интернет как пространство – уровни интернета, монстры из него, нетсталкеры;
– рассказывающие об интернете как о способе организации сообществ.
Как описывалось выше, основная задача этих историй – заставить поверить в свою достоверность. Иногда это получается настолько успешно, что страх-головокружение превращается в моральную панику[9 - Моральная паника – это общественный феномен, который заключается в распространении истерии по поводу какого-нибудь явления, которое может представлять угрозу для части общества или всего сразу. Зачастую такие настроения и слухи носят преувеличенный характер. Подробным образом о моральных паниках мы будем говорить в части «Головокружение, паника, киты».]. Вместо щекотания нервов люди ищут в этих историях реальную угрозу, а иногда даже пытаются ее ликвидировать.
Феномен интернета очень специфичен неким противоречивым отношением к нему. Абсолютное большинство людей им пользуются и живет в мире, который наполнен последствиями использования Всемирной сети. При этом чуть ли не хорошим тоном является высказывание опасений об интернете, настороженное отношение к его проникновению в жизненный мир. Есть даже блогерша «Поля из деревки», чей образ целиком построен на отрицании урбанистического образа жизни. Однако она, во-первых, ведет блог в интернете, а во-вторых, ее быт, по крайней мере в том виде, в котором она его описывает, непредставим без интернета (даже если исключить его транслирование в Сеть) – все общение, досуг (вроде скачивания и просмотра фильмов) завязан на Всемирной сети. Это справедливо для большинства сюжетов об удаленном образе жизни, только выпадение из интернета означает окончательное выпадение из общественной жизни.
Еще какое-то время (почти год) я работал в разных детских лагерях (это может показаться странным, но есть те, которые работают круглый год). Когда дети сами сочиняли сценки для разных выступлений, рано или поздно там появлялась тема болезненного увлечения гаджетами, соцсетями и интернетом в целом. Всегда почему-то такие увлечения там имеют однозначную окраску – абсолютное зло. В таких сценках и выступлениях конфликт имеет положительное разрешение только в случае отказа от соцсетей и гаджетов. Такое явное отрицание ценности своего же собственного образа жизни кажется попыткой подстроиться, угадать желания взрослых, которые в конце концов оценивают такие выступления. Однако опрос этого не подтвердил – в основном дети действительно искренне считают, что сидеть в телефоне вредно, однако ничего не могут поделать с собой. Этот парадокс заслуживает отдельного исследования и еще ждет своего исследователя. Но именно он обнажает этот конфликт – нечто близкое, что является обязательным элементом образа жизни, несет в себе неведомую опасность. Здесь есть элемент как грехопадения, так и сделки с дьяволом – христианского сюжета, поэтому вышеназванный конфликт с технологиями так понятен. Как говорил Маршалл Маклюэн, технологии решают только те проблемы, которые создают сами, однако жизнь без решения этих проблем как будто уже непредставима.
Я общался с самыми разными людьми из области IT, а также ходил и изучал самые разные дискуссии о страхе и технологиях (дискуссии на площадке InLiberty, конференция «Антропология Страха» Европейского Университета, конференция «Фобии и Фольклор» РАНХиГС и тому подобные).
Можно выделить несколько наиболее общих страхов, связанных с технологиями и интернетом.
Страх, что «оно все выключится»
Это единственный страх, который связан с утратой тех обыденных технологий, к которым мы привыкли. Страх не завершить начатое дело, потерять воспоминания, лишиться доказательств.
Физический, аналоговый носитель представляется как будто более надежным, пусть и не таким универсальным и всепроникающим. «Облачность», облачные технологии кажутся не заслуживающим доверия хранилищем. Это также является артикуляцией порядка, когда абсолютно все может быть зафиксировано, но не принадлежит своему создателю. Условный сервер в любой момент может упасть, и ничего не останется. Да, существует опасность пожара, наводнения, действия недоброжелателя или любой другой причины, которая уничтожает личный архив. Но когда он не зафиксирован в реальном, а не интернет-пространстве, мы будто не можем его контролировать.
Страх потери реальной жизни, возможности выбирать
История развития японского «повествования о необычайном» имеет ряд особенностей, которые позволяют считать кайдан своего рода моделью (или, как минимум, одной из главных моделей) развития японской литературы и культуры в целом[2 - Г. Б. Дуткина «Душа Японии» в зеркале японского кайдана. Японские исследования. 2016. № 3.].
Традиционные японские верования переплетались с буддизмом. Во многом религиозная эстетика дзэн-буддизма выразилась в идее о чистоте кармы, о том, как важно совершать добро, несмотря ни на какие трудности. Например, легенда «Опасный кот по кличке Донгоросу» повествует о бродячем коте, с раннего возраста отвергнутом не только людьми, но и своими собратьями-зверьми. Однажды Донгоросу встречает доброго старика, который подкармливает его и своим примером показывает, что нужно оставаться добрым в любой жизненной ситуации. После смерти старика Донгоросу продолжает выполнять его работу – следить за детьми, переходящими через дорогу. Но в конце кот бесследно исчезает, а дети беспокоятся, куда же он пропал. Открытый финал указывает на необходимость домыслить самому то, что могло случиться с Донгоросу, что близко такому эстетическому принципу, как югэн. Югэн означает интуитивное восприятие сущности объекта. Очевидное сменяется потаенным; конечную реальность, скрытую за предметом, нельзя точно определить, глубинные чувства нельзя изобразить на лице, выразить прямо, можно лишь намекнуть на них, дать знать об их существовании, чтобы зритель или читатель смог узнать их в себе, своем опыте.
Упомянутые выше особенности японского мировоззрения, помноженные на буддийский мистицизм и остатки первобытных верований, сместили фокус сверхъестественного ужаса в японской культуре: сам потусторонний объект не так страшен, как иррациональная модификация привычных форм. Эта модификация обрела свое имя – обакэ (от глагола бакэру – превращаться, трансформироваться). Обакэ принято называть все сверхъестественные сущности и явления.
Данная концепция в свою очередь породила мириады демонов, духов и бесов всех форм и размеров. Например, ранее упомянутые цукумогами – не злые предметы-убийцы. Это лишь очень старая вещь, существующая более ста лет. Но, согласно сингону – одной из буддистских школ, – все вещи обладают душой, а достаточно древние начинают обладать еще и характером и индивидуальностью. А какая у них будет индивидуальность – зависит от окружения и поведения этого самого окружения. Если хозяин никогда не ухаживал за парой соломенной обуви и не научил правилам ухода своих потомков, то однажды сандалия оживет, выпустит длинные тонкие ноги с куриными лапами вместо стоп, раскроет единственный глаз и будет ходить ночами по дому, напевая о важности ухода за обувью. Поскольку такие существа бессмертны, предполагается, что наблюдать это будут поколения. Очень поучительная история о том, как важно ухаживать за вещами.
Развитие и распространение кайдана совпало сначала с массовым распространением литературы, которая больше не была доступна только избранным. После Второй мировой войны в кайдане произошел резкий прорыв границ жанра. Высокое искусство и сфера развлечений окончательно дистанцировались, в результате чего в послевоенной Японии расцвела андеграунд-культура. Журналы изобиловали эротическими и фантастическими кайданами. Однако центром «индустрии кайдана» стал стремительно развивавшийся кинематограф. Ведущие киностудии Японии начинают массово экранизировать классику литературного кайдана, в котором переплетаются все необходимые компоненты успеха – эротика, ужас и эстетизация смерти.
В 1953 году режиссер Мидзогути Кэндзи получает Серебряного льва на Венецианском кинофестивале за экранизацию «Сказок туманной луны после дождя». Следом режиссер Кобаяси Масаки за фильм «Квайдан» (экранизация четырех новелл Лафкадио Хирна) награждается специальным призом жюри на Каннском кинофестивале (1965). Кайдан и японские призраки, духи, привидения и чудовища, впервые явленные западному миру в англоязычном произведении Лафкадио Хирна, выходят на широкую арену как чисто японский культурный феномен, демонстрируя результаты национальной культурной адаптации.
Япония лидирует в производстве не только кино, но и игр жанра хоррор. Clock Tower – игра, вышедшая в 1995 году и ставшая первым представителем жанра. Затем выходят Resident Evil и, конечно, Silent Hill. В каждой из этих трех игр прослеживается влияние традиционного японского ужаса.
«Локализованные» крипипасты пришли не только из Японии; достаточно многие из них – американские.
Например, одна из самых популярных крипипаст «Тупик пустот» – это российская локализация рассказа Стивена Кинга «Крауч-Энд». Отечественная версия довольно подробно пересказывает сюжет рассказа, однако он представлен не от третьего лица, как оригинал, а от первого. Главный герой – милиционер, во время дежурства которого ППС нашла перепуганную женщину, которая заявила о пропаже мужа при странных обстоятельствах. Любопытно было бы провести сопоставление этих двух текстов. Кинговская история описывает всю мрачную странность, которую могут испытывать американцы в Лондоне – городе, где говорят на таком же языке, но одновременно и немного другом, где такие же улицы и дома, но при этом все отличается. Это параллельное, искаженное и при этом более древнее пространство. Кинг говорил о том, что идея рассказа, где заблудившаяся семейная пара американцев во время путешествия вдруг проваливается в Лондон как в параллельный мир, была вдохновлена его собственной поездкой в этот город с женой. Писатель разглядел в Лондоне именно такую паранормальную опасность. Соединив это странное озарение с «Мифами Ктулху» Говарда Лавкрафта (отсылка в тексте рассказа честно поставлена), Кинг получает почти образцовый рассказ ужасов, весь посыл которого довольно откровенно объяснен автором словами одного из персонажей:
Лавкрафт всегда писал о других измерениях ‹…›, которые находятся далеко от наших. В них полно бессмертных чудовищ, которые одним взглядом могут свести человека с ума. Жуткий вздор, правда? Если не считать тех случаев, когда кто-то попадает туда, я думаю, что все это могло быть правдой. Тогда, когда вокруг тишина и стоит поздняя ночь, как сейчас, я говорю себе, что весь наш мир, все, о чем мы думаем, приятное, обыкновенное и разумное – все это похоже на большой кожаный мяч, наполненный воздухом. Только в некоторых местах кожа эта протерлась почти насквозь.
Что же в российской крипипасте? Сюжет подан в виде милицейской байки о странном случае во время дежурства: семейная пара пошла поесть в один из московских ресторанов в районе Китай-города, оставив машину в одном из переулков (примета времени). Уже ночью, по пути обратно к машине, они попадают в непонятное пространство, в котором мужчина бесследно исчезает. Рассказ от первого лица добавляет в историю правдоподобия, а на месте литературоведческой беседы о природе бытия стоит очень конкретное рассуждение о пропаже людей:
…про пропащих людей стоит сказать отдельно: просто так люди никуда не исчезают. Люди пропадают, но потом их находят. Как правило, по весне, всплывшими. И обычно у человека есть предыстория: окружение (нарк человек или еще что-то), род деятельности (частный кредитор) и так далее. Но вот чтобы так, обычный человек в центре оживленного города на глазах своей жены растворился в воздухе, таких историй почти нет. Почти.
Этими двумя отрывками можно проиллюстрировать разницу между авторским литературным произведением и сетевой крипипастой. Заимствуя сюжет и даже почти что персонажей, крипипаста укрепляет всю конструкцию, чтобы сделать ее более реалистичной. Она переносится в уста оперативника – представителя власти, обогащается деталями Москвы начала 2000-х и в конце концов лишается прекрасных литературных отсылок, оставляя только мотив пропажи человека. В какой-то момент читатель должен не просто погрузиться в предлагаемый рассказ, а начать сопоставлять историю со своим опытом, вспоминать заброшенные дома в центре города, объявления о пропаже людей. Именно на границе вымышленного мира рассказа Стивена Кинга и повседневного бытования китайгородских переулков должно закрасться сомнение в том, а так ли вымышлен потусторонний, параллельный мир. Вернее, граница между нашим миром и вымышленным описывается так четко, что через нее можно посмотреть (как сквозь протертую материю).
Детская крипипаста
Если набрать «крипипаста» в поисковике на ютубе или в соцсетях, можно заметить, что часто под этим словом имеется в виду что-то совсем другое. Можно наткнуться на рейтинги «Топ персонажей крипипаст», различные рисунки, а также не связанные с темой ужасов рассказы, в которых фигурируют различные персонажи крипипаст (например, Слендермен или убийца Джефф, Бен-утопленник), но рассказы не будут связаны с темой страхов и ужасов.
Для детей, родившихся в XXI веке, крипипасты – это способ собственного творчества, который не обязательно связан с «классическими» страшилками. Мы наблюдаем, как трансформировалась потребность в страшном фольклоре у детей. Раньше страшные истории рассказывались в пионерских лагерях из-за специфической функции инициации, перехода в новый возраст, которую летние лагеря имели в обществе. Кроме того, изменилось изображение «легитимного страшного» в популярной культуре для детей. В качестве примера можно привести такой мультфильм, как «Hotel Transylvania» («Монстры на каникулах» в российском прокате) или игрушки Monster High – страшные образы претерпевают своеобразную «гламуризацию» своих страшных составляющих. Также свою роль играет разнообразие и доступность любых сюжетов в интернете, что разрушает «локус» детского рассказывания страшилок (то есть больше нет специфического места и ситуаций только для этого) – фольклористы фиксируют, что дети узнают о страшных не из личного общения и специализированной художественной литературы, а через «желтую» прессу, интернет-дискуссии, а также фан-арт, созданный преимущественно такими же детьми.
Именно этим можно объяснить современный вид детского страшного фольклора – этакий плавильный котел, в котором смешиваются очень разные части популярной культуры, городских легенд, а также самостоятельного детского творчества. Важно, что интернет-сообщества учат детей рассказывать и писать – в отдельных ветках и постах можно выложить свою историю, и все другие будут оценивать, как она написана (прежде всего по параметру страшно/не страшно), что довольно подробно воспроизводит традицию устного рассказывания историй, но в ином контексте. Как бы в подтверждение этого тезиса популярность набирают видеоролики, а также специальные «конференции», направленные исключительно на страшный контент.
Стоит сказать, что разнообразные «коллекционеры» или «обзорщики» жанра «крипипаста» и интернет-фольклора в целом недолюбливают «детские» крипипасты – прежде всего «за отсутствие атмосферы», а также чрезмерную концентрацию на персонажах и добавление в привычные сюжеты новых, не имеющих отношения к страшному, деталей вроде взаимоотношений героев или описаний их быта.
Такая «профанизация», очеловечивание (то есть нейтрализация возможного вреда, который может нанести персонаж крипипасты) является способом работы со страхом и его преодолением. Поэтому, согласно фольклористским источникам, дети описывают персонажей крипипаст как что-то вполне реальное, с чем возможно взаимодействовать. Иногда это приводит к трагедиям – в 2014 году было по меньшей мере три несчастных случая в США, которые напрямую связаны со страхом детей перед Слендерменом – тощим высоким персонажем в строгом костюме без лица, который живет в лесу (и был придуман в 2009 году). Девочка во Флориде подожгла свой дом и обвинила в этом Слендермена, а в Огайо «одержимая» Слендерменом девочка напала с ножом на свою собственную мать. Но самый известный случай произошел в Висконсине: там две 13-летние девочки заманили свою подругу в лес под видом игры в прятки и 19 раз ударили ее ножом. Несмотря на тяжелые раны, девочка выжила и даже смогла самостоятельно выбраться из леса, где ее заметил велосипедист и вызвал подмогу. Последующее разбирательство показало, что девочки долгое время планировали убийство. Они сделали это, потому что прочитали подробную инструкцию о том, как принести жертву Слендеру, чтобы стать его «фаворитками» и поселиться с ним в лесу. Одна из участниц ритуала говорила, что не хотела этого делать, «но боялась того, что может случиться, если этого не сделать, и я не хочу знать, что могло бы случиться, если бы мы не сделали этого». Об этом случае есть документальный фильм HBO, который называется «Beware the slenderman». Это экстремальные случаи, но они вписываются в модель работы со страшными персонажами – те случаи, когда произошло слишком сильное «размытие границ» воображаемого и реального, без которого не работает жанр ужасов, а также не функционирует общество в целом, – те самые игры, о которых пишет Ирвинг Гоффман.
Фольклористка Эста Матвеева разделяет способы «работы» со страшным персонажем по параметрам отношения с пространством:
– ребенок в «своем» пространстве соприкасается с персонажем – объектом страха посредством фантазии (фактического взаимодействия не происходит), провоцирующей в нем необходимый эмоциональный отклик – практика рассказывания страшных историй,
– сокращение дистанции между человеком и персонажем происходит на следующем этапе, когда ребенок выходит из зоны комфорта (из «своего» пространства) и, рискуя собственной безопасностью (как он считает), отправляется к персонажу в «чужое» пространство – практика посещение запретных «страшных мест»,
– третья практика сокращает дистанцию между человеком и персонажем в обратном направлении, за счет сознательного переманивания человеком объекта страха в «свое» пространство – практика вызывания страшного персонажа.
Также способы работы с персонажем могут рассматриваться как self-help ребенка. Как и взрослые, дети создают произведения (тексты или рисунки) для борьбы со своей тревогой. Это преодоление страхов и одновременно проработка взаимодействия с потусторонними силами в целом. Эста Матвеева выделяет шесть механизмов преодоления страха через фольклорное:
1) Борьба со страхами через проговаривание своего страха, разговоры о нем. По сути, это возможность в безопасной обстановке прикоснуться в своих фантазиях к «страшному», будучи при этом защищенным в реальном мире[3 - Осорина М. В. «Черная простыня летит по городу», или Зачем дети рассказывают страшные истории // Знание – сила. № 10. СПб., 1986.]. «Посредством страшных историй дети получают возможность контролировать и бороться со страхом неизвестного. Ребенок, который действительно боится скрывающихся в темноте монстров, способен в некоторой степени побороть свой страх, если сможет контролировать неизвестного монстра, заманив его в матрицу сюжетов»[4 - Grider S. Childrens ghost stories // Haunting Experiences: ghosts in contemporary folklore. Utah State University Press, 2007.].
Чем чаще и подробнее описывать то, чего ты боишься, тем больше вероятность, что его сила как страшного объекта начнет уменьшаться. Возможно, этим объясняется некоторая «ротация» страшных образов – слишком много раз повторенная история о «гробе на колесиках» перестает пугать, уже моему поколению было сложно объяснить, что в этом такого страшного, страшное «стерлось» о частое повторение.
2) Борьба со страхами через непосредственное столкновение – ребенок или группа детей отправляется непосредственно в «страшное место» (кладбище, заброшенный дом, жуткая подворотня и т. п.). Основное условие того, что подобное действие может быть эффективным способом работы с пугающим, – это «вера в то, что легенда может быть чем-то большим, чем просто вымышленной историей»[5 - Kinsella M. Legend-Tripping Online: Supernatural Folklore and the Search for Ong’s Hat. University Press of Mississippi, 2011.]. Такой поход в страшное место – это доказательство своей смелости, демонстрация отсутствия страха окружающим, себе и, в конце концов, – объекту страха. В таком преодолении себя усматриваются мотивы инициации: «Никто точно не знает, каков будет исход инициации, и страшно представить себе худший из возможных результатов»[6 - Tucker E. Tales and Legends // Children’s folklore. Brian Sutton-Smith, Jay Mechling, Thomas W. Johnson, Felicia R. McMahon. Utah State University Press. 1999.]. Таким образом, Элизабет Такер показывает, что эта практика – важный этап для перехода в более старшую группу подростков.
3) Похожий на предыдущий способ – призыв или вызов персонажа. Осуществляется через найденные в интернете инструкции по проведению «ритуала». Однако такой способ не имеет явно выраженной социальной или инициационной функции – он направлен исключительно на переживание определенных эмоций и, соответственно, преодоление их.
4) Борьба со страшным через смех – самый яркий пример такой работы со страшным – так называемые садистские стишки («маленький мальчик по стройке гулял…»). «…Они, травестируя ужасное, подвергая его почти кощунственному осмеянию, выполняют своеобразную психотерапевтическую функцию, ослабляя сакральные страхи ребенка, подростка»[7 - Трыкова О. Ю. О современном состоянии жанров детского фольклора // Ярославский педагогический вестник. – Ярославль, 2001. № 3/4. С. 104.]. Именно так трансформируется «канонический» интернет-фольклор в детских сообществах о крипипастах – в пародийных или даже карикатурных воплощениях тот же Слендермен выглядит не как персонаж ужасов, а как персонаж анимации для детей («няшно»).
5) Борьба со страхом через попытку умилостивить страшного персонажа, заслужить его доверие или симпатию – именно это произошло с девочками из Висконсина. Подрост-ки опасались, что если они не принесут в жертву свою подругу, то убийца придет за ними, так как основная его функция в текстах страшных историй – кража и убийство детей. Опять же, это экстремальный случай, обычно все ограничивается воспроизведением мотивов из страшилок – развешиванием надписей или рисунков в лесу, созданием кукол и тому подобное.
6) Идентификация себя со страшным персонажем – именно этим занимаются дети на Хэллоуин: переодеваются и ведут себя как персонаж, который больше всего их пугает, чтобы наконец избавиться от этого страха. Этот механизм упомянула в своей работе американская исследовательница Линда Дег – дети надевают костюмы монстров на Хэллоуин, чтобы защититься от «нечистой силы»: «Идентификация себя с ужасающим объектом становится эффективной защитой от него»[8 - Degh L. Does the Word «Dog» Bite? Ostensive Action: A Means of Legend-Telling // Journal of Folklore Research. Vol. 20, No.1. Indiana University Press, 1983.].
7) Последний способ – это попытка вступить в близкие отношения с персонажем крипипасты.
Этот способ наглядно демонстрирует фрагмент из интервью Эсты Матвеевой с девочкой 12 лет:
Я помню всегда, когда мне казалось что-то страшное, вот я вот сижу на балконе и мне вот кажется, что-то кто-то ко мне вот сейчас прилетит или вот что-нибудь такое. И я вот всегда, когда было ощущение, что он стоит рядом, я всегда старалась с ним подружиться, я с ним говорила. [Это как?] Ну, я вот так сижу, просто темно, вот такая сижу, и слышу какие-то шорохи, я про себя, в уме что-то там говорю, типа, поздороваюсь с ним, спрашиваю, как его зовут. [Зачем ты так делала?] Я всегда думала, что если с ним подружишься, то он ничего не сделает, вот. Ну, для меня это было как самоуспокоение, типа, я с ним поздоровалась, подружилась, он мне ничего не сделает, я со спокойной душой уходила домой, что он не будет меня преследовать. Я думала, сейчас, если я просто убегу, он пойдет за мной.
«Детская», персонажная крипипаста – это, безусловно, тема для отдельного исследования. Даже по тем элементам анализа этой темы, которые показаны выше, видно, насколько это большой и важный пласт жизни ребенка и подростка. Однако дальше мы будем говорить о крипипасте в классическом ее понимании – страшная история как она есть, не обязательно основанная на персонажах, но, безусловно, имеющая отношение к коллективным страхам. Через мотивы, которые описаны в историях, приведенных далее, я попытаюсь показать что говорят о нас образы, с помощью которых мы пытаемся испугаться сами и напугать других.
Сеть
Несмотря на то, что все разбираемые здесь вещи происходят в интернете и выделять Сеть в отдельную тему является своеобразной тавтологией, все же это отдельное направление сюжетов страшных историй. Довольно большая часть историй посвящена страхам, связанным с интернетом. Я бы выделил три их основных типа:
– описывающие то, как интернет себя проявляет, – мессенджеры, сайты, файлы;
– описывающие интернет как пространство – уровни интернета, монстры из него, нетсталкеры;
– рассказывающие об интернете как о способе организации сообществ.
Как описывалось выше, основная задача этих историй – заставить поверить в свою достоверность. Иногда это получается настолько успешно, что страх-головокружение превращается в моральную панику[9 - Моральная паника – это общественный феномен, который заключается в распространении истерии по поводу какого-нибудь явления, которое может представлять угрозу для части общества или всего сразу. Зачастую такие настроения и слухи носят преувеличенный характер. Подробным образом о моральных паниках мы будем говорить в части «Головокружение, паника, киты».]. Вместо щекотания нервов люди ищут в этих историях реальную угрозу, а иногда даже пытаются ее ликвидировать.
Феномен интернета очень специфичен неким противоречивым отношением к нему. Абсолютное большинство людей им пользуются и живет в мире, который наполнен последствиями использования Всемирной сети. При этом чуть ли не хорошим тоном является высказывание опасений об интернете, настороженное отношение к его проникновению в жизненный мир. Есть даже блогерша «Поля из деревки», чей образ целиком построен на отрицании урбанистического образа жизни. Однако она, во-первых, ведет блог в интернете, а во-вторых, ее быт, по крайней мере в том виде, в котором она его описывает, непредставим без интернета (даже если исключить его транслирование в Сеть) – все общение, досуг (вроде скачивания и просмотра фильмов) завязан на Всемирной сети. Это справедливо для большинства сюжетов об удаленном образе жизни, только выпадение из интернета означает окончательное выпадение из общественной жизни.
Еще какое-то время (почти год) я работал в разных детских лагерях (это может показаться странным, но есть те, которые работают круглый год). Когда дети сами сочиняли сценки для разных выступлений, рано или поздно там появлялась тема болезненного увлечения гаджетами, соцсетями и интернетом в целом. Всегда почему-то такие увлечения там имеют однозначную окраску – абсолютное зло. В таких сценках и выступлениях конфликт имеет положительное разрешение только в случае отказа от соцсетей и гаджетов. Такое явное отрицание ценности своего же собственного образа жизни кажется попыткой подстроиться, угадать желания взрослых, которые в конце концов оценивают такие выступления. Однако опрос этого не подтвердил – в основном дети действительно искренне считают, что сидеть в телефоне вредно, однако ничего не могут поделать с собой. Этот парадокс заслуживает отдельного исследования и еще ждет своего исследователя. Но именно он обнажает этот конфликт – нечто близкое, что является обязательным элементом образа жизни, несет в себе неведомую опасность. Здесь есть элемент как грехопадения, так и сделки с дьяволом – христианского сюжета, поэтому вышеназванный конфликт с технологиями так понятен. Как говорил Маршалл Маклюэн, технологии решают только те проблемы, которые создают сами, однако жизнь без решения этих проблем как будто уже непредставима.
Я общался с самыми разными людьми из области IT, а также ходил и изучал самые разные дискуссии о страхе и технологиях (дискуссии на площадке InLiberty, конференция «Антропология Страха» Европейского Университета, конференция «Фобии и Фольклор» РАНХиГС и тому подобные).
Можно выделить несколько наиболее общих страхов, связанных с технологиями и интернетом.
Страх, что «оно все выключится»
Это единственный страх, который связан с утратой тех обыденных технологий, к которым мы привыкли. Страх не завершить начатое дело, потерять воспоминания, лишиться доказательств.
Физический, аналоговый носитель представляется как будто более надежным, пусть и не таким универсальным и всепроникающим. «Облачность», облачные технологии кажутся не заслуживающим доверия хранилищем. Это также является артикуляцией порядка, когда абсолютно все может быть зафиксировано, но не принадлежит своему создателю. Условный сервер в любой момент может упасть, и ничего не останется. Да, существует опасность пожара, наводнения, действия недоброжелателя или любой другой причины, которая уничтожает личный архив. Но когда он не зафиксирован в реальном, а не интернет-пространстве, мы будто не можем его контролировать.
Страх потери реальной жизни, возможности выбирать