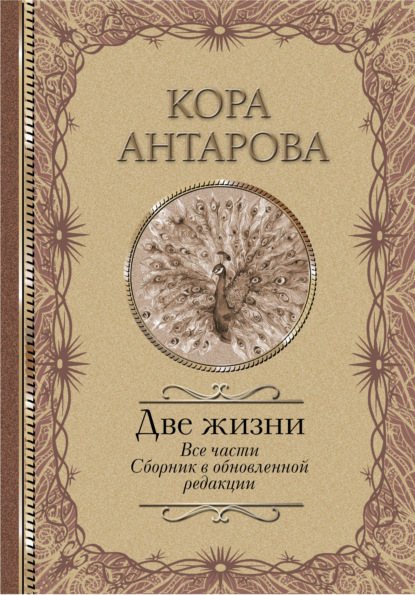По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Две жизни. Все части. Сборник в обновленной редакции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Оторванный от своих грез, я резко вскочил, чтобы броситься на помощь, зацепился ногой за чемодан, который стоял у столика, и упал бы со всего размаха прямо на пол, лицом вниз, если бы меня не схватили сзади за плечи сильные руки И.
– Нос разобьешь, Левушка, – уморительно копируя старушечье шамканье, сказал он. Это было так смешно и неожиданно, так не подходило к серьезной фигуре И., что я расхохотался, забыв, куда и зачем бежал.
– Подожди здесь, друг, – проговорил он уже своим обычным голосом. – Я пойду с моими каплями. Узнаю истеричный голос нашей старшей соседки по столу. Быть может, я там задержусь, но ты все же не выходи из купе, если я не приду за тобой. Все время помни о нашей главной цели. Флорентиец уже уехал в Париж, поезд должен был отойти минут десять назад, судя по времени, – сказал он, посмотрев на часы. – Ведь Флорентиец отправился в путь ради тебя и твоего брата. Я еду ради тебя и для него. Ананда живет в Москве тоже ради вас обоих. Как же ты можешь считать себя одиноким и бездомным?
В эту минуту кто-то постучал в наше купе. И. ласково поцеловал меня в лоб и открыл дверь.
У порога стоял давешний генерал, с которым флиртовала тетка, и еще какой-то молодой человек. Генерал извинялся за беспокойство и просил доктора – принимая И. за такового – помочь молодой девушке, упавшей в обморок в соседнем купе; никто не может привести ее чувство, хотя ее тетка уже более часа употребляет к этому все обычные средства.
И. только спросил, зачем же раньше к нему не обратились, захватил походную аптечку из того саквояжа, что вручил мне Флорентиец, и ушел вместе с двумя постучавшимися к нам пассажирами.
Я выглянул в коридор, куда высыпали мужчины и дамы из всех купе. Они представляли довольно-таки смешную картину. У каждого было растерянно-вопросительное лицо, – и в руках какой-либо флакон. Очевидно, прежде чем вспомнить о докторе, все они помогали злосчастной тетке привести в чувство девушку.
Я закрыл дверь, убрал в сетку чемодан, о который я так неловко споткнулся, и стал думать о девушке, впавшей в такой глубокий обморок. Я вспомнил ее худенькое личико и тоненькую, почти детскую фигурку. Казалось, что здоровьем она столь же не крепка, как и я; и так же невыдержанна и плохо воспитана, – в смысле самообладания.
«Вот, – думал я, – у нее есть и мать, и отец; есть дом и даже два, потому что она едет на свою дачу к морю. А жизнь ее вряд ли веселее моей, если приходится жить и ездить с теткой, которую ненавидишь».
Я старался нарисовать себе картину дома, быта и всей внутренней жизни девушки. Мне хотелось понять, каким же образом до такой глубокой сердечной боли мог дойти в родительском доме ребенок. Как, изо дня в день, ее должна была угнетать атмосфера жизни родителей, если Лиза могла обнажить душу перед чужими людьми, как это случилось с ней сегодня.
Я сравнивал ее с собой и всем сердцем искал оправдания ее поступку, памятуя, что недавно сказал мне И. Мне припомнились мои слезы за последние дни; как горько я плакал – и тоже перед чужими мне людьми, я – мужчина, старше ее на добрые пять лет.
И звучавший лейтмотивом этих дней вопрос «Кто тебе свой? Кто чужой?», назойливо возвращающийся ко мне, отвел мои мысли от девушки…
Через некоторое время я снова вернулся мыслями к ней. Нравилась ли мне Лиза? За все мои двадцать лет я еще ни разу не был влюблен. Я так был занят, такое множество у меня было уроков, сочинений, книг, которые я к ним должен был прочесть. Да и брат в своих письмах присылал мне целые программы; перечень музеев и галерей, которые я должен был повидать, – все это заполняло мою голову, я всегда был занят. Знакомств же, кроме старой тетки, у меня не было никаких. А в ее доме я встречал только старых важных дам, каждая из которых учила меня внешним манерам, давая целовать свои сморщенные и надушенные руки и не интересуясь вовсе духовной жизнью замухрышки, каким я несомненно был в их представлении. Все их разговоры были о большом свете; на каком балу у графини С. они были и к каким князьям В. пойдут завтра.
Никогда мне не доводилось даже сидеть за одним столом с девушками или танцевать с ними. Лиза была первой девушкой обычной, простой жизни, с которой я просидел около часа за одним столом. Как Наль являла собой какую-то высшую красоту, принадлежала высшей, необычной жизни. И с обеими я не просто общался, как с добрыми знакомыми, а подсмотрел у той и другой маленький уголок их духовной, скрытой от всех, жизни.
«Лиза упрекала тетку в том, что первому встречному она готова поведать о своих делах. А разве сама она не выдала гораздо больше того, что раскрыла тетка?» – вертелось в моей голове колесо мыслей.
Теплое чувство к Лизе и острое желание помочь ей чем-нибудь, принять участие в ее судьбе шевельнулись во мне.
Должно быть, прошло немало времени, пока я занимался этими психологическими этюдами. За окном была темная ночь, в коридоре горела зажженная проводником свечка, но в купе было довольно темно.
Я встал, намереваясь выглянуть, как в дверь внезапно постучали, и я увидел И., вводившего в наше купе Лизу, которая, очевидно, не могла сама идти; за ними шла тетка с пледом в руках.
– Левушка, у Лизы был сильный сердечный припадок. Пока ей приготовят постель, ей надо полежать у нас, сидеть она не может, – сказал И., укладывая девушку на диван.
Я хотел выйти в коридор, но он дал мне хрустальный флакон и велел каждые пять минут подносить к носу Лизы. Я присел на чемодан у ее изголовья и стал выполнять свою миссию лекарского подмастерья. Тетке И. указал место у столика, взял у нее плед, накрыл им девушку и сел у ее ног.
Несколько минут царило полное молчание. Тетку я не видел, ибо, занятый своей миссией, сидел к ней спиной. Пользуясь полуобморочным состоянием Лизы, я внимательно ее разглядывал.
Бесспорно, это была красивая девушка. Но меня крайне поразило, что одна щека ее была восковой бледности, а другая не только пылала, но багровость ее переходила в большой синяк, что отчетливо стало видно теперь, когда И. достал складной подсвечник, зажег в нем свечу и поставил на столик.
– О чем теперь вы плачете? – услышал я вдруг голос И. Я оглянулся и увидел, что лицо тетки все залито слезами; нос, губы, щеки – все распухло, и вид ее был до отвращения безобразен.
– Не о девчонке плачу, а о своей судьбе. Что теперь будет со мной? Она станет всех уверять, что это я ее толкнула. А на самом деле сама ушиблась… – отвечала злым голосом тетка сквозь всхлипывания.
Я взглянул на И. и поразился грозному выражению его лица. Он так пристально смотрел на плачущую, что сразу напомнил мне Али. Никогда бы не поверил, что у неизменно ровного, большей частью светящегося доброжелательством И. может быть такое грозное лицо, такие суровые глаза.
– Вам лучше всего не лгать. Я так же хорошо знаю, как и вы, что это вы ее ударили, не рассчитав своей силы; и я могу вам показать отпечаток вашей ладони на ее щеке. Если бы вы ударили чуть выше, – с Лизой было бы кончено, – говорил звенящим голосом И.
Всхлипывания прекратились, и в тишине раздался свистящий от бешенства голос тетки:
– Возможно, что вы и доктор. Но вряд ли вообще понимаете, что сейчас говорите. Я, слабая женщина, могла так ударить девчонку, чтобы свалить ее в обморок? Говорю вам, она сама свалилась, и у меня не было силы ее поднять.
– И поэтому вы исщипали ей всю грудь и руку, – сказал И. – Но поскольку вы отрицаете, что избили ее, – мне придется сделать фотографический снимок на чувствительной пластинке и передать его судебным властям, как только мы прибудем в Севастополь.
Воцарилось недолгое молчание, затем тетка прошипела:
– Сколько возьмете за свое молчание?
И. рассмеялся, я тоже не мог удержаться от смеха и закричал:
– Да это целый роман!
Вероятно, мой смех особенно раздражил такую сейчас старую и безобразную даму. Когда я на нее взглянул – точно змея меня укусила, так злы были ее глаза.
– Я совестью не торгую и взятки ни за какие услуги не беру. Девушке вы нанесли и моральный и физический вред. За моральный удар вы ответите жизни; он не останется безнаказанным и вернется к вам с той стороны, откуда вы его никак не ожидаете. От вашего собственного ребенка вы получите такую же пощечину. А за удар физический вы ответите судебной власти и понесете заслуженное наказание, – говорил И., доставая из саквояжа футляр с фотографическим аппаратом.
– Пожалейте меня. Не знаю, зачем эта злая девчонка рассказала вам о моем сыне. Это мое единственное сокровище. Умоляю вас, не губите меня. Я впервые ударила ее за то, что она выдала меня перед вами. Пожалейте несчастную мать, – бормотала она прерывающимся голосом.
– Почему же вы не пожалели единственного ребенка своей сестры? Женщины, несчастье которой составляете вы до сих пор, – продолжал И., все так же сурово глядя на нее.
– Вы еще слишком молоды. Вы не знаете бедности. Вы не можете ни понять, ни судить меня, – жалобно говорила женщина. – Но если вы не выдадите меня родителям Лизы, клянусь жизнью своего сына, что пальцем не трону больше девчонку.
– И будете продолжать есть хлеб вашей сестры, жить в ее доме, разыгрывать в нем хозяйку? О нет, вы слишком дорого цените благополучие вашего сына и слишком дешево – три жизни ваших родных. Только тогда я вас не выдам, если вы уедете из дома сестры.
– Куда же я денусь? Вы так говорите, потому что не знали нужды и не понимаете жизни. Чем я буду жить? – раздраженно спросила тетка.
Вторично по лицу И. скользнуло нечто вроде усмешки, едва уловимой, так что я подумал, что, пожалуй, и в первый раз на его лице, как и сейчас, просто играл колеблющийся свет горящей свечи.
– Вы должны работать, – тихо сказал он.
– Работать? Оно и видно, что сами-то вы и гроша не заработали, просидели на шее папеньки с маменькой, как и ваш братец, и не понимаете, о чем тут болтаете, – злясь и фыркая, говорила тетка.
– Я повторяю, – чрезвычайно спокойно, но с непоколебимой волей возразил И., – что единственное условие, при котором я согласен покрыть ваш грех и взять на себя таким образом часть вашего преступления, – это условие немедленного отъезда из дома сестры и лично ваш труд. Вы должны сами зарабатывать себе на хлеб и научить тому же вашего сына.
– Я не кухарка и не гувернантка, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Я барыня, слышите вы, ба-ры-ня! Была, есть и буду!
– Достаточно сейчас взглянуть на себя в зеркало, чтобы убедиться, что вы не барыня в том смысле, в каком должно понимать привилегии этого понятия – высокую культуру, самодисциплину и самообладание, – ответил И.
– Вы очень дерзки и самонадеянны. Я никуда не уеду и ничуть вас не боюсь, – закричала тетка.
– Ах, если бы вы понимали, что вам следует бояться только себя, вы сумели бы защитить сына от всех бед и вывели бы его в люди. И не был бы он, вслед за вами, приживальщиком, обещая стать негодным человеком. Вы боитесь лишиться сестринского крова, отравленного для нее вами. Но поймите же, я не угрожаю, не запугиваю вас, только разоблачу перед родными. И они не станут более терпеть вас у себя ни минуты, и вы останетесь на улице. Уйдете добровольно, я обещаю найти вам работу. Вы должны понять, что трудиться обязаны все, а вы – в особенности.
– Да не могу я быть гувернанткой, – снова закричала она.
– Никому не может прийти в голову допустить вас к детям. Помимо дурного характера, помимо эгоизма и злобы, которыми вы дышите, как кипящий котел, вы не имеете даже начального понятия о такте. А бестактный человек, даже добрый, так же вреден ребенку, как плохой зараженный воздух. Я имел в виду дать вам письмо к своему другу в Москве. Он ведет большое литературное дело, и ему нужны переводчики. Платит он очень щедро. Кроме того, он, наверное, сможет выделить вам небольшую квартиру в своем доме. Пока вы не съели ни одного куска хлеба, заработанного своими руками и головой, – вы не можете понять счастья жить на земле. Его приносит только честный труд.
– Нос разобьешь, Левушка, – уморительно копируя старушечье шамканье, сказал он. Это было так смешно и неожиданно, так не подходило к серьезной фигуре И., что я расхохотался, забыв, куда и зачем бежал.
– Подожди здесь, друг, – проговорил он уже своим обычным голосом. – Я пойду с моими каплями. Узнаю истеричный голос нашей старшей соседки по столу. Быть может, я там задержусь, но ты все же не выходи из купе, если я не приду за тобой. Все время помни о нашей главной цели. Флорентиец уже уехал в Париж, поезд должен был отойти минут десять назад, судя по времени, – сказал он, посмотрев на часы. – Ведь Флорентиец отправился в путь ради тебя и твоего брата. Я еду ради тебя и для него. Ананда живет в Москве тоже ради вас обоих. Как же ты можешь считать себя одиноким и бездомным?
В эту минуту кто-то постучал в наше купе. И. ласково поцеловал меня в лоб и открыл дверь.
У порога стоял давешний генерал, с которым флиртовала тетка, и еще какой-то молодой человек. Генерал извинялся за беспокойство и просил доктора – принимая И. за такового – помочь молодой девушке, упавшей в обморок в соседнем купе; никто не может привести ее чувство, хотя ее тетка уже более часа употребляет к этому все обычные средства.
И. только спросил, зачем же раньше к нему не обратились, захватил походную аптечку из того саквояжа, что вручил мне Флорентиец, и ушел вместе с двумя постучавшимися к нам пассажирами.
Я выглянул в коридор, куда высыпали мужчины и дамы из всех купе. Они представляли довольно-таки смешную картину. У каждого было растерянно-вопросительное лицо, – и в руках какой-либо флакон. Очевидно, прежде чем вспомнить о докторе, все они помогали злосчастной тетке привести в чувство девушку.
Я закрыл дверь, убрал в сетку чемодан, о который я так неловко споткнулся, и стал думать о девушке, впавшей в такой глубокий обморок. Я вспомнил ее худенькое личико и тоненькую, почти детскую фигурку. Казалось, что здоровьем она столь же не крепка, как и я; и так же невыдержанна и плохо воспитана, – в смысле самообладания.
«Вот, – думал я, – у нее есть и мать, и отец; есть дом и даже два, потому что она едет на свою дачу к морю. А жизнь ее вряд ли веселее моей, если приходится жить и ездить с теткой, которую ненавидишь».
Я старался нарисовать себе картину дома, быта и всей внутренней жизни девушки. Мне хотелось понять, каким же образом до такой глубокой сердечной боли мог дойти в родительском доме ребенок. Как, изо дня в день, ее должна была угнетать атмосфера жизни родителей, если Лиза могла обнажить душу перед чужими людьми, как это случилось с ней сегодня.
Я сравнивал ее с собой и всем сердцем искал оправдания ее поступку, памятуя, что недавно сказал мне И. Мне припомнились мои слезы за последние дни; как горько я плакал – и тоже перед чужими мне людьми, я – мужчина, старше ее на добрые пять лет.
И звучавший лейтмотивом этих дней вопрос «Кто тебе свой? Кто чужой?», назойливо возвращающийся ко мне, отвел мои мысли от девушки…
Через некоторое время я снова вернулся мыслями к ней. Нравилась ли мне Лиза? За все мои двадцать лет я еще ни разу не был влюблен. Я так был занят, такое множество у меня было уроков, сочинений, книг, которые я к ним должен был прочесть. Да и брат в своих письмах присылал мне целые программы; перечень музеев и галерей, которые я должен был повидать, – все это заполняло мою голову, я всегда был занят. Знакомств же, кроме старой тетки, у меня не было никаких. А в ее доме я встречал только старых важных дам, каждая из которых учила меня внешним манерам, давая целовать свои сморщенные и надушенные руки и не интересуясь вовсе духовной жизнью замухрышки, каким я несомненно был в их представлении. Все их разговоры были о большом свете; на каком балу у графини С. они были и к каким князьям В. пойдут завтра.
Никогда мне не доводилось даже сидеть за одним столом с девушками или танцевать с ними. Лиза была первой девушкой обычной, простой жизни, с которой я просидел около часа за одним столом. Как Наль являла собой какую-то высшую красоту, принадлежала высшей, необычной жизни. И с обеими я не просто общался, как с добрыми знакомыми, а подсмотрел у той и другой маленький уголок их духовной, скрытой от всех, жизни.
«Лиза упрекала тетку в том, что первому встречному она готова поведать о своих делах. А разве сама она не выдала гораздо больше того, что раскрыла тетка?» – вертелось в моей голове колесо мыслей.
Теплое чувство к Лизе и острое желание помочь ей чем-нибудь, принять участие в ее судьбе шевельнулись во мне.
Должно быть, прошло немало времени, пока я занимался этими психологическими этюдами. За окном была темная ночь, в коридоре горела зажженная проводником свечка, но в купе было довольно темно.
Я встал, намереваясь выглянуть, как в дверь внезапно постучали, и я увидел И., вводившего в наше купе Лизу, которая, очевидно, не могла сама идти; за ними шла тетка с пледом в руках.
– Левушка, у Лизы был сильный сердечный припадок. Пока ей приготовят постель, ей надо полежать у нас, сидеть она не может, – сказал И., укладывая девушку на диван.
Я хотел выйти в коридор, но он дал мне хрустальный флакон и велел каждые пять минут подносить к носу Лизы. Я присел на чемодан у ее изголовья и стал выполнять свою миссию лекарского подмастерья. Тетке И. указал место у столика, взял у нее плед, накрыл им девушку и сел у ее ног.
Несколько минут царило полное молчание. Тетку я не видел, ибо, занятый своей миссией, сидел к ней спиной. Пользуясь полуобморочным состоянием Лизы, я внимательно ее разглядывал.
Бесспорно, это была красивая девушка. Но меня крайне поразило, что одна щека ее была восковой бледности, а другая не только пылала, но багровость ее переходила в большой синяк, что отчетливо стало видно теперь, когда И. достал складной подсвечник, зажег в нем свечу и поставил на столик.
– О чем теперь вы плачете? – услышал я вдруг голос И. Я оглянулся и увидел, что лицо тетки все залито слезами; нос, губы, щеки – все распухло, и вид ее был до отвращения безобразен.
– Не о девчонке плачу, а о своей судьбе. Что теперь будет со мной? Она станет всех уверять, что это я ее толкнула. А на самом деле сама ушиблась… – отвечала злым голосом тетка сквозь всхлипывания.
Я взглянул на И. и поразился грозному выражению его лица. Он так пристально смотрел на плачущую, что сразу напомнил мне Али. Никогда бы не поверил, что у неизменно ровного, большей частью светящегося доброжелательством И. может быть такое грозное лицо, такие суровые глаза.
– Вам лучше всего не лгать. Я так же хорошо знаю, как и вы, что это вы ее ударили, не рассчитав своей силы; и я могу вам показать отпечаток вашей ладони на ее щеке. Если бы вы ударили чуть выше, – с Лизой было бы кончено, – говорил звенящим голосом И.
Всхлипывания прекратились, и в тишине раздался свистящий от бешенства голос тетки:
– Возможно, что вы и доктор. Но вряд ли вообще понимаете, что сейчас говорите. Я, слабая женщина, могла так ударить девчонку, чтобы свалить ее в обморок? Говорю вам, она сама свалилась, и у меня не было силы ее поднять.
– И поэтому вы исщипали ей всю грудь и руку, – сказал И. – Но поскольку вы отрицаете, что избили ее, – мне придется сделать фотографический снимок на чувствительной пластинке и передать его судебным властям, как только мы прибудем в Севастополь.
Воцарилось недолгое молчание, затем тетка прошипела:
– Сколько возьмете за свое молчание?
И. рассмеялся, я тоже не мог удержаться от смеха и закричал:
– Да это целый роман!
Вероятно, мой смех особенно раздражил такую сейчас старую и безобразную даму. Когда я на нее взглянул – точно змея меня укусила, так злы были ее глаза.
– Я совестью не торгую и взятки ни за какие услуги не беру. Девушке вы нанесли и моральный и физический вред. За моральный удар вы ответите жизни; он не останется безнаказанным и вернется к вам с той стороны, откуда вы его никак не ожидаете. От вашего собственного ребенка вы получите такую же пощечину. А за удар физический вы ответите судебной власти и понесете заслуженное наказание, – говорил И., доставая из саквояжа футляр с фотографическим аппаратом.
– Пожалейте меня. Не знаю, зачем эта злая девчонка рассказала вам о моем сыне. Это мое единственное сокровище. Умоляю вас, не губите меня. Я впервые ударила ее за то, что она выдала меня перед вами. Пожалейте несчастную мать, – бормотала она прерывающимся голосом.
– Почему же вы не пожалели единственного ребенка своей сестры? Женщины, несчастье которой составляете вы до сих пор, – продолжал И., все так же сурово глядя на нее.
– Вы еще слишком молоды. Вы не знаете бедности. Вы не можете ни понять, ни судить меня, – жалобно говорила женщина. – Но если вы не выдадите меня родителям Лизы, клянусь жизнью своего сына, что пальцем не трону больше девчонку.
– И будете продолжать есть хлеб вашей сестры, жить в ее доме, разыгрывать в нем хозяйку? О нет, вы слишком дорого цените благополучие вашего сына и слишком дешево – три жизни ваших родных. Только тогда я вас не выдам, если вы уедете из дома сестры.
– Куда же я денусь? Вы так говорите, потому что не знали нужды и не понимаете жизни. Чем я буду жить? – раздраженно спросила тетка.
Вторично по лицу И. скользнуло нечто вроде усмешки, едва уловимой, так что я подумал, что, пожалуй, и в первый раз на его лице, как и сейчас, просто играл колеблющийся свет горящей свечи.
– Вы должны работать, – тихо сказал он.
– Работать? Оно и видно, что сами-то вы и гроша не заработали, просидели на шее папеньки с маменькой, как и ваш братец, и не понимаете, о чем тут болтаете, – злясь и фыркая, говорила тетка.
– Я повторяю, – чрезвычайно спокойно, но с непоколебимой волей возразил И., – что единственное условие, при котором я согласен покрыть ваш грех и взять на себя таким образом часть вашего преступления, – это условие немедленного отъезда из дома сестры и лично ваш труд. Вы должны сами зарабатывать себе на хлеб и научить тому же вашего сына.
– Я не кухарка и не гувернантка, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Я барыня, слышите вы, ба-ры-ня! Была, есть и буду!
– Достаточно сейчас взглянуть на себя в зеркало, чтобы убедиться, что вы не барыня в том смысле, в каком должно понимать привилегии этого понятия – высокую культуру, самодисциплину и самообладание, – ответил И.
– Вы очень дерзки и самонадеянны. Я никуда не уеду и ничуть вас не боюсь, – закричала тетка.
– Ах, если бы вы понимали, что вам следует бояться только себя, вы сумели бы защитить сына от всех бед и вывели бы его в люди. И не был бы он, вслед за вами, приживальщиком, обещая стать негодным человеком. Вы боитесь лишиться сестринского крова, отравленного для нее вами. Но поймите же, я не угрожаю, не запугиваю вас, только разоблачу перед родными. И они не станут более терпеть вас у себя ни минуты, и вы останетесь на улице. Уйдете добровольно, я обещаю найти вам работу. Вы должны понять, что трудиться обязаны все, а вы – в особенности.
– Да не могу я быть гувернанткой, – снова закричала она.
– Никому не может прийти в голову допустить вас к детям. Помимо дурного характера, помимо эгоизма и злобы, которыми вы дышите, как кипящий котел, вы не имеете даже начального понятия о такте. А бестактный человек, даже добрый, так же вреден ребенку, как плохой зараженный воздух. Я имел в виду дать вам письмо к своему другу в Москве. Он ведет большое литературное дело, и ему нужны переводчики. Платит он очень щедро. Кроме того, он, наверное, сможет выделить вам небольшую квартиру в своем доме. Пока вы не съели ни одного куска хлеба, заработанного своими руками и головой, – вы не можете понять счастья жить на земле. Его приносит только честный труд.