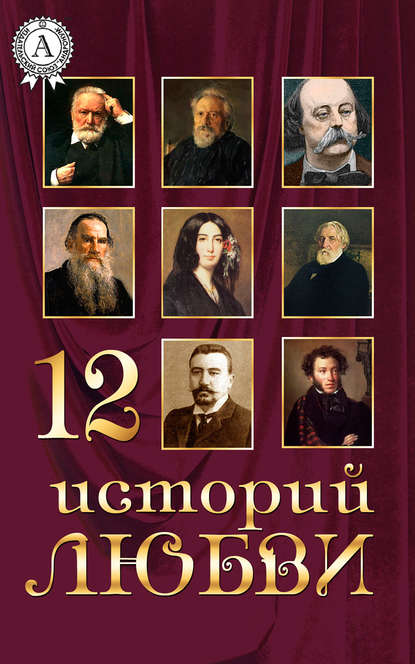По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
12 историй о любви
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Говорю тебе, он умер!
Она упала ничком на пол, и в темном подземелье нельзя было расслышать никакого иного звука, кроме лёгкого шума, производимого каплей воды, падавшей с потолка в лужу.
V. Мать
Я не думаю, чтобы на свете могло быть что-нибудь более радостного, чем мысли, пробуждающиеся в сердце матери при взгляде на башмачок своего ребенка, в особенности, если это башмачок праздничный, воскресный, башмачок, сшитый для крестин, вышитый до самой подошвы, которым ребенок не ступил еще ни шагу. Башмачок этот так мил, так миниатюрен, что матери, при виде его, кажется, как будто она видит перед собою своего ребенка. Он улыбается ей, а она покрывает его поцелуями, болтает с ним. Она спрашивает себя: неужели, в самом деле, может существовать на свете такая маленькая ножка; и если бы даже самого ребенка и не было здесь, то достаточно одного хорошенького башмачка, чтобы восстановить в уме ее весь образ этого нежного и хрупкого создания. Ей кажется, будто она видит его, и, действительно, она его видит, как живого, веселого, розового, с его маленькими ручками, круглой головкой, с его розовым ротиком и ясными глазками, белки которых имеют синеватый отлив. Если дело происходит зимою, то она видит его ползающим по ковру, с трудом взбирающимся на табуретку, и мать дрожит при мысли о том, как бы он не подошел слишком близко к камину. Если же на дворе стоит лето, то он ползает по двору, по саду, выщипывает травку, растущую между камнями, наивно смотрит на больших собак, на еще больших лошадей, не ощущая ни малейшего страха, играет камешками, цветами и заставляет ворчать садовника, находящего при возвращении своем песок в клумбах цветов и землю на дорожках сада. Все смеется, все блистает, все играет вокруг него и вместе с ним, не исключая и ветерка, и солнечного луча, шаловливо играющих с его кудрями. Башмачок все это приводит на ум матери, и сердце ее тает, наподобие восковой свечи.
Но раз бедная мать лишится ребенка, все эти образы, полные радости, прелести, нежности, теснившиеся вокруг маленького башмачка, делаются столькими же ужасными вещами. Вышитый башмачок превращается в орудие пытки, без малейшего перерыва терзающее сердце матери. Он заставляет звенеть в сердце все одну и ту же струну, – струну самую глубокую и чувствительную; но только вместо ласкающего ангела теперь струну эту затрагивает мучитель-демон.
В одно прекрасное утро, когда майское солнце только что показалось на том темно-синем горизонте, на котором Гарофало так любит помещать свои «Сошествия с креста», затворница Гревской площади услышала на площади стук колес, лошадиный топот, бряцание цепей. Но это не произвело на нее почти никакого действия; она только покрепче обмотала свои волосы вокруг ушей, чтобы шум этот не оглушал ее, и снова принялась, стоя на коленях, рассматривать тот самый неодушевленный предмет, с которого она не спускала глаз уже в течение пятнадцати лет. Этот маленький башмачок, как мы уже говорили, заменял для нее весь мир; в нем заключены были все ее мысли, которые должны были выйти из него только с последним ее дуновением. Одним только стенам ее мрачной кельи было известно, сколько трогательных жалоб, сколько горьких упреков, сколько молитв и сколько рыданий вырвалось из груди ее по поводу этой маленькой безделушки из розового атласа. Вряд ли когда-нибудь столько отчаяния вылилось на такую хорошенькую и маленькую вещицу.
В это утро, казалось, горе ее было сильнее обыкновенного, и можно было даже с площади расслышать, как она причитывала громким и монотонным голосом, раздиравшим душу:
– О, моя дочь, моя дочь, моя бедная малютка! Значит, все кончено! А мне все кажется, будто все это случилось не далее, как вчера! Боже мой, Боже мой, уж лучше было бы совсем не давать мне ее, чем так скоро отнимать! Ты, значит, не знаешь, что для нас дети наши – часть нас самих, и что мать, лишившаяся своего ребенка, не верит более в Бога! – Ах, я несчастная! И нужно же было выходить из дому в это утро! – О, Господи, Господи! Ты, значит, никогда не видел меня вместе с нею, если Ты мог так скоро отнять ее у меня. Ты не видел, как я, полная радости, грела ее у окна, как она улыбалась мне, когда я кормила ее грудью или когда я заставляла ее переступать ноженками по моему телу, до тех пор, пока они не доходили до моих губ! О, если бы Ты видел все это, Господи, Ты бы сжалился надо мною, Ты бы не отнял у меня единственной радости в моей жизни! Неужели же я была такое презренное создание, о, Господи, что Ты не удостоил взглянуть на меня, прежде чем осудить меня? Увы! вот башмачок! Но где же ножка, где все остальное, где дитя мое? О, дочь моя, дочь моя, что они сделали с тобою? О, Господи, Господи, возврати мне дочь мою! Я уже в течение пятнадцати лет стираю себе колена, умоляя Тебя, о, Господи! Неужели ж этого недостаточно? Возврати мне ее, на один день, на один час, на одну минуту, одну минуту, о, Боже, и затем отдай мою душу на веки вечные дьяволу! О, если бы мне только знать, где Ты, я могла поймать полу Твоего одеяния, я бы уцепилась за нее обеими руками и не выпустила бы ее, пока Ты не возвратил бы мне моего ребенка! А ее хорошенький башмачок, неужели Ты не сжалишься и над ним, о, Господи! Можешь ли Ты осудить бедную мать на эту пятнадцатилетнюю муку! О, Пресвятая Богородице, обращаюсь к Тебе! У меня отняли, у меня украли моего младенца, его съели в лесу, выпили его кровь, разгрызли его кости! О, Пресвятая Дева, сжалься надо мною! Дочь моя! возвратите мне дочь мою! Что мне от того, что она в раю? Мне не нужно вашего ангела, мне нужен мой ребенок! Я львица, – мне нужно моего львенка! – О, я буду валяться на земле, и буду проклинать и себя, и Тебя, о, Господи, если Ты не возвратишь мне моего ребенка! Смотри, руки мои все искусаны! О, Всемилостивейший Боже, неужели Ты не сжалишься надо мною! Я готова весь остаток жизни моей питаться только черным хлебом с солью, лишь бы возле меня была моя дочь, которая согревала бы меня, точно солнце! Увы, о, Господи Боже мой, я ничто иное, как старая грешница, но дочь моя делала меня благочестивой. Я сделалась религиозною из любви к ней, и я видела Тебя, о, Господи, сквозь улыбку ее, как бы сквозь отверстие в небе. – О, если бы мне довелось хоть разок, хоть один разок обуть ее хорошенькую ножку в этот розовый башмачок, – и я, Пресвятая Богородица, готова буду умереть, благословляя Тебя! – Да, с тех пор прошло уже пятнадцать лет; теперь она была бы уже большая! – Несчастное дитя мое! Как, неужели я ее больше не увижу, даже на небе, ибо мне туда не попасть?.. О, проклятие! Видеть этот башмачок и сознавать, что это все, что от нее осталось!
И с этими словами несчастная кинулась к башмачку, предмету своего утешения и своего отчаяния в течение стольких лет, и рыдания душили ее так же, как и в первый день, ибо для матери, лишившейся своего ребенка, всякий день разлуки с ним – первый день; это горе не стареет. Траурная одежда изнашивается и стирается, но сердце остается облеченным в траур.
В это время под окошечком ее убежища раздались веселые и звонкие детские голоса. Каждый раз, когда до слуха ее долетали эти голоса или она видела в свое оконце детей, бедная мать забивалась в самый темный угол своей гробницы и как будто старалась зарыться головою в камень, чтобы ничего не видеть и не слышать. Но на этот раз она, напротив, вскочила на ноги и стала жадно прислушиваться. Дело в том, что до слуха ее долетели слова, произнесенные каким-то маленьким мальчиком:
– Сегодня будут вешать цыганку.
С тем быстрым движением, которое мы подметили у паука, кинувшегося на муху при сотрясении паутины, она подбежала к оконцу, выходившему, как известно, на Гревскую площадь. Действительно, она увидела, что к виселице была приставлена лестница, и что палач занят был смазыванием петель, заржавевших от дождя. Вокруг виселицы стояло несколько ротозеев. Кучка детей, смеясь, успела уже отбежать довольно далеко. Тогда затворница стала искать глазами какого-нибудь прохожего, которого она могла бы порасспросить. При этом взор ее упал на какого-то священника, стоявшего возле самой ее кельи и делавшего вид, будто он читает выставленный тут же общественный молитвенник, но, в сущности, гораздо менее занятого молитвенником, чем виселицей, на которую он по временам бросал мрачный и суровый взгляд. Она узнала в нем благочестивого архидиакона Клода.
– Отец мой, – обратилась она к нему с вопросом, – кого это собираются вешать?
Священник взглянул на нее, ничего не ответив. Она повторила вопрос свой, и он ответил:
– Не знаю.
– Тут какие-то дети говорили сейчас, что повесят Цыганку, – продолжала затворница.
– Кажется, что так, – ответил священник.
При этих словах Пахита Шанфлери разразилась смехом гиены.
– Сестра моя, – спросил ее архидиакон, – вы, значит, очень ненавидите цыганок?
– Еще бы мне их не ненавидеть! – воскликнула она, – это какие-то вампиры, воровки детей! они похитили у меня мою девочку, мою дочь, единственного моего ребенка! Лучше бы они съели сердце мое!
В эту минуту она была просто страшна. Священник холодно смотрел на нее.
– Особенно ненавижу я одну из них, которую я и прокляла, – продолжала она. – Это молодая девушка, которая была бы ровесницей моей дочери, если бы ее мать не сожрала мою дочь. Каждый раз, когда эта ехидна проходит мимо окна моего, я чувствую, что вся кровь моя кипит.
– Ну, так радуйтесь, сестра моя, – проговорил священник, холодный, как надгробная статуя, – ее то именно и собираются сейчас казнить.
С этими словами он опустил голову на грудь и медленно удалился.
– А ведь я предсказывала ей, что быть ей на виселице! – воскликнула она, радостно всплеснув руками. – Благодарю вас, отец мой!
И она стала расхаживать большими шагами перед железной решеткой своего оконца, с распущенными волосами, со сверкающими глазами, с жадным взором заключенной в клетку волчицы, которая давно уже проголодалась и которая чувствует, что приближается время еды.
VI. Три человеческих сердца, различным образом созданных
Феб, однако, не умер. Такие пустые люди, как он, вообще, бывают живучи. Когда королевский прокурор Филипп Лелье сказал бедной Эсмеральде: – «он умирает», – то он сказал это по ошибке или в шутку.
Когда архидиакон сказал осужденной: «он умер», то он сказал это не потому, чтобы знал то наверное, а потому, что он верил тому, не сомневался в том, рассчитывал и надеялся на то; для него было бы слишком тяжело сообщить женщине, которую он любил, хорошие вести о своем сопернике. Всякий человек на его месте сделал бы то же самое.
Не то, чтобы рана, нанесенная Фебу, не была опасна, но она была менее опасна, чем надеялся архидиакон. Лекарь, к которому отнесли его тотчас после нанесения ему раны солдаты дозора, в течение целой недели боялся за его жизнь и даже высказал ему это по-латыни. Но, в конце концов, молодость взяла верх; и, как нередко случается и в наше время, природа, назло врачам и их диагнозам и прогнозам, сыграла с ними шутку и спасла больного под самым носом их. Лежа еще на кровати в квартире лекаря, он вынужден был выслушать первые допросы Филиппа Лелье и консисторских следователей, что ему очень надоедало. Поэтому, в одно прекрасное утро, почувствовав себя несколько лучше, он оставил врачу золотые шпоры свои, в виде платы за лечение, и куда-то скрылся. Исчезновение его, впрочем, ни мало не помешало дальнейшему ходу следствия. В то время правосудие очень мало заботилось о полноте и ясности судебного следствия, лишь бы можно было повесить обвиняемого, – вот все, что ему было нужно. Судьям показалось, что собрано уже достаточно улик против Эсмеральды. Феба же они сочли умершим – и дело с концом.
Между тем, Феб и не думал бежать особенно далеко. Он, просто, отправился в место стоянки своей роты, в Кё-он-Бри, в провинции Иль-де-Франс, через несколько станций от Парижа. Дело в том, что ему вовсе не хотелось лично фигурировать в этом процессе, так как он смутно чувствовал, что ему придется разыграть в нем довольно смешную роль. Впрочем, он сам не отдавал себе ясного отчета во всем этом деле. Будучи суеверным, как все малообразованные люди, он, раздумывая обо всем этом деле, находил немало странного и в козе, и в той необычайной обстановке, при которой он познакомился с Эсмеральдой, и в той не менее необычайной обстановке, при которой она созналась ему в своей любви, и в том, что она все же цыганка, и, наконец, в буке. Он видел во всем этом гораздо более чародейства, чем любви, сквозь все это для него проглядывала колдунья, а быть может и сама нечистая сила. Словом, все это представлялось ему очень неприятной комедией, или, употребляя тогдашнюю терминологию, мистерией, в которой ему на долю выпала очень смешная и далеко не почетная роль. Наш капитан испытывал тот стыд, который, по словам Лафонтена, испытывала «лиса, попавшая в лапы курицы».
К тому же он надеялся, что в отсутствие его дело заглохнет, что имя его едва будет произнесено во время процесса и что, во всяком случае, оно не выйдет из-за стен суда. В этом отношении он, пожалуй, и не ошибался, так как в то время не существовало еще никаких «Судебных Газет»; а так как тогда не проходило почти ни одной недели, чтобы не был сварен в котле фальшивый монетчик, или повешена колдунья, или сожжен еретик на той или иной из парижских площадей, то современники до того привыкли видеть старую, феодальную Фемиду, совершавшую с засученными рукавами и обнаженными руками свою работу близ всевозможных виселиц, колес и позорных столбов, что на это, вообще очень мало обращали внимания. Высшим классам едва ли даже известны были имена всех тех несчастных, которых проводили мимо них на лобное место, а чернь с удовольствием лакомилась этим грубым блюдом. Публичная казнь в те времена была таким же обыденным, заурядным явлением, как сковорода пирожника или бойня живодера. Палач был чем-то вроде мясника, ни более, ни менее.
Итак, Феб довольно скоро забыл и чародейку Эсмеральду, или Симиляр, – он все еще никак не мог припомнить ее имя, – и удар кинжалом, нанесенный ему цыганкой или букой (он опять-таки не знал наверное, кем из них), и ни мало не беспокоился об исходе процесса. Но как только сердце его сделалось вакантным с этой стороны, его снова наполнил образ Флер-де-Лис. Вообще, сердце Феба, как и природа, по учению тогдашних физиков, не любило пустоты. К тому же Ке-он-Бри, деревушка, населенная кузнецами и коровницами с потрескавшимися руками, представляла собою крайне непривлекательное местопребывание; это был длинный, двойной ряд лачуг и хижин по обеим сторонам большой дороги – и больше ничего.
Флер-де-Лис была предпоследней его страстью. Это была премиленькая девушка, с порядочным приданым. Итак, в одно прекрасное утро, совершенно поправившись и предполагая, что в течение двух месяцев все это дело с цыганкой должно быть кончено и забыто, влюбленный офицер прибыл верхом к двери дома вдовы Гонделорье.
Он не обратил никакого внимания на довольно многочисленную толпу, собравшуюся на площади перед главным входом в собор. Он припомнил, что был май месяц, быть может, Духов день; он предполагал, что это, быть может, какая-нибудь процессия, какое-нибудь шествие, привязал своего коня к кольцу двери и весело поднялся к своей красавице-невесте.
У Флер-де-Лис все еще не выходили из головы сцена с ворожеей, ее коза, ее проклятая азбука и продолжительное отсутствие Феба. Однако, когда капитан вошел, ей показалось, что у него такой бодрый вид, такой новый мундир, такая блестящая перевязь и такой страстный взор, что она покраснела от удовольствия. Молодая девушка в этот день сама была красивее, чем когда-либо. Ее великолепные, белокурые волосы были сплетены в красивые косы, она была одета вся в небесно-голубой цвет, который так идет к блондинкам, – этому искусству научила ее Коломба, – а в глазах ее сказывалась истома любви, которая так идет к некоторым молодым девушкам.
Феб, давно уже не видевший никаких других женщин, кроме коровниц Ке-он-Бри, был просто очарован при виде Флер-де-Лис, и он приветствовал ее с такою грациозностью и любезностью, что мир между ними был тотчас же заключен. Даже сама госпожа Гонделорье, сидевшая, по обыкновению, в своем кресле, не решилась пожурить его. Что касается до упреков Флер-де-Лис, то они скорее похожи были на нежное воркование.
Молодая девушка сидела возле окошка, продолжая вышивать свой Нептунов грот. Капитан облокотился о высокую спинку ее стула, и она вполголоса обращала к нему свои упреки.
– Что это вы пропадали в течение целых двух месяцев, злой человек?
– Клянусь вам, – ответил Феб, несколько смущенный этим вопросом, – вы так красивы сегодня, что в состоянии с ума свести архиепископа.
– Хорошо, хорошо, – продолжала она, улыбнувшись, – оставьте в покое мою красоту: дело теперь идет не о ней. Отвечайте-ка мне лучше на мой вопрос.
– Ну, так я скажу вам, милая кузина, что мне пришлось содержать караулы.
– Где же это? И почему же в таком случае вы раньше того не пришли проститься со мною?
– В Ке-он-Бри! – ответил Феб, обрадовавшись тому, что первый вопрос давал ему удобный случай увильнуть от второго.
– Да ведь это близехонько от Парижа! Неужели же, вы не могли оттуда ни разу навестить меня?
– Видите ли… служба… И к тому же, милая кузина, я был болен.
– Больны! – воскликнула она с испуганным видом.
– Да… т. е. ранен.
– Ранены? – переспросила молодая девушка, и на лице ее выразился ужас.
– О, не пугайтесь, – небрежно проговорил Феб, – это пустяки! Просто, маленькая ссора, царапина шпагой! Что же вам в этом?