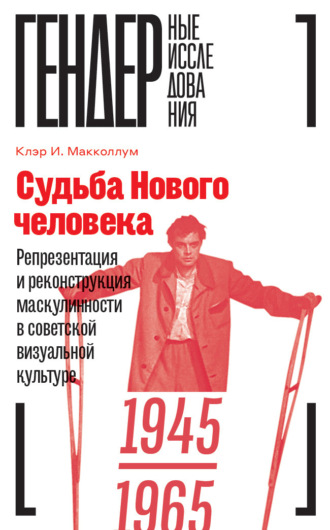
Судьба Нового человека. Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре. 1945–1965
Сьюзен Рейд детально рассмотрела многие из перечисленных работ. Она связывала возникновение образа гипермаскулинного рабочего с задачами третьей Программы КПСС, которая была формально принята на XXII партсъезде в октябре 1961 года и должна была осуществить окончательный переход от социализма к коммунизму. Как утверждает Рейд, доминирование образа советского супермена было художественной манифестацией представления Хрущева о коммунистическом обществе, где будут жить люди, «гармонично сочетающие духовное богатство, моральную чистоту и совершенные физические качества»162. При этом произведения наподобие «Ремонтников» Салахова демонстрировали некое смещение от нормативного для сталинского периода зрителя-женщины к предшествующему ей зрителю-мужчине 1920-х годов. На картине Салахова этот эффект достигается за счет создания для зрителя эффекта присутствия в лодке рядом с героями: направленный на зрителя неподвижный взгляд центрального персонажа как будто задает вопрос, является ли зритель «достаточно мужчиной», чтобы присоединиться к миссии ремонтников – не только починить скважину, но и достичь коммунизма. По мнению Рейд, достойным жить в новой коммунистической эпохе будет считаться только тот, кто воплощает в себе истинные маскулинные ценности, подобно персонажам этих картин163.
Интерпретационная рамка и контекст, введенные в статье Рейд, исключительно значимы для оценки изменений в репрезентации маскулинности и феминности после смерти Сталина. Рейд, несомненно, точно выявила главную тему подобных картин – борьба за достижение коммунизма, в центре которой находились идеалы труда и товарищества. Однако стоит взглянуть и на непосредственный контекст задач и устремлений третьей Программы партии как мотивирующего фактора, стоявшего за появлением подобных образов, сквозь призму войны. Выше уже отмечалось, что традиционному маскулинному идеалу военного героя был брошен вызов со стороны кровавой реальности войны, так что после всех смертей и разрушений образ военного смягчался, романтизировался и подавался далеким от насилия – эта тенденция пережила Сталина и оставалась актуальной на всем протяжении эпохи оттепели. Таким образом, гипермаскулинного героя-рабочего можно рассматривать как фигуру, заполняющую вакуум, образовавшийся после разрушения военного архетипа. Все качества, ценившиеся в военном, – храбрость, преданность делу, готовность поставить на кон свою жизнь ради достижения победы – обнаруживаются и в фигуре рабочего. Ключевым моментом оказывается тот факт, что картины Илтнера, Агапова, Салахова и других художников давали представление о героической мужественности, которая была эгалитарной, но при этом не связанной по сути с военной службой. Этот момент формировал модель патриотизма и служения стране для тех, кто во время войны был слишком молод, чтобы сражаться, – тем не менее молодежь могла побороться за достижение коммунизма.
Представление о советском человеке как хозяине природы – тема, избыточно присутствовавшая в репрезентации гражданской жизни. Если сопоставить картины, посвященные этой теме, с работами рассматриваемого периода, на которых изображался советский солдат, можно увидеть, что во всех этих картинах отношения между человеком и землей представлены более симбиотическими, а в некоторых случаях почти духовными. В противоположность созданным в сталинскую эпоху картинам Непринцева и Федорова, использовавших пейзаж, чтобы подчеркнуть мощь советского солдата, в работах конца 1950-х – начала 1960-х годов пейзаж выступал в качестве успокаивающего элемента или укрытия, а человек изображался как часть природного мира, а не его покоритель. Как уже было отмечено, картина «Соловьиная ночь» в определенном смысле является одой природе, в которой богатство естественной среды уносит созерцающего его человека прочь от рукотворных ужасов войны. Эта сцена оказывается примечательной параллелью к одной из более ранних работ Неменского, на которой молодой солдат просыпается в лесу, завороженный окружающей его красотой. Однако в более поздней «Земле опаленной» Неменский использует пейзаж, чтобы показать насилие войны, изображает его всклокоченным, пылающим и раненным разрушительным воздействием битвы – природа оказывается такой же жертвой войны, как и люди, укрывающиеся в грязном окопе.
В своем обзоре 1958 года, посвященном картинам на военную тему, представленным на Всесоюзной выставке 1957 года, критик Полищук детализировала сюжет, представленный Неменским: главный герой его картины – крестьянин, который держит в руке несколько зерен, найденных им в колосках, что все еще растут посреди этой мясорубки. Тем самым он сокрушается об уничтоженном урожае где-то в его краях и о родной земле, «пропитанной кровью, опаленной… обнаженной [и] подвергнутой пыткам»164. Однако точно так же, как картина Неменского была редким для того времени изображением психологического воздействия войны в ретроспективном антураже, необычным было и воплощение искалеченного пейзажа – гораздо более привычным было подавать его как некую неизменную константу, так или иначе незапятнанную каким-либо человеческим действием.
Наиболее показательна роль неизменной природы в образах возвращения домой с фронта, которые также стали появляться вновь после 1956 года. Тема возвращающегося солдата была популярна в изобразительном искусстве конца 1940-х – начала 1950-х годов. В центре таких работ были домашнее пространство и отношения ветерана с женой, детьми, а в отдельных случаях и с родителями – эту тему мы еще рассмотрим в главе IV. Однако в конце 1950-х годов произошло перемещение фокуса с домашнего пространства на природу165. Во многом здесь напрашиваются параллели между подобными образными воплощениями возвращения домой и концептуализацией пейзажа в работах передвижников, для которых были характерны не только размашистые перспективы, но и изображение первозданных, нетронутых человеком ландшафтов. В шедеврах Исаака Левитана, Архипа Куинджи и особенно Ивана Шишкина пейзаж Российской империи изображался как вневременный и вечный, не подвергшийся изменению сельским хозяйством и урбанизацией, а главное, социальными и политическими волнениями конца XIX века166. В аналогичном духе на картинах «Возвращение домой» (1958) Андрея Лысенко167, «К земле» (1958) Т. Котова168, а также на картинах Виктора Дмитриевского (1958?) и Евгения Лесина (1961) с одинаковым названием «В родные места»169,170 советский солдат показан на фоне природы, похожей (по меньшей мере с виду) на ту, что он покинул несколько лет назад: солнце все так же сияет, рожь все так же колосится в полях, а река течет в том же направлении171. Возвращение домой было не просто возвратом к нормальности, а новым утверждением мирной жизни, поскольку фигура ветерана была лишена любого намека на ожесточение или насилие: он возвращался в места, которые, как и он сам, не были изменены войной.
Сюжет о возвращении домой и привычные образы гомосоциального товарищества объединяет проблема отношений между человеком и его родиной, несмотря на то что в двух этих жанрах данный аспект изображался по-разному. Идея России-матери существовала на протяжении столетий, предшествовавших советскому режиму, и представление о том, что феминная нация была связующим звеном между людьми, тоже не было исключительно советским. Как более четко сформулировал эту мысль в своем исследовании иранской идентичности Афсанех Наджмабади, «в националистском дискурсе представление родины в качестве женского тела часто использовалось для конструирования национальной идентичности, основанной на мужских скрепах в рамках нации братьев»172. И все же, несмотря на то что тема господства над природой была очень значительной составляющей сталинистского дискурса, отношение между землей и народом преимущественно выражалось с помощью фигуры колхозницы, так что в период коллективизации визуальная культура особенно насыщалась образами женщин, работающих вместе для обеспечения успеха всего предприятия. Тем не менее здесь присутствует и важный контекст бунтов, возглавляемых женщинами, а также действий по сопротивлению коллективизации, которые, несомненно, влияли на то, как изображался этот советский проект, в особенности на плакатах того периода173
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Не вполне ортодоксальное изложение истории создания произведения. По утверждению журналиста М. Кокты (очерк «В станице Вешенской», опубликованный в 1959 году в журнале «Советская Украина»), в 1946 году Шолохов случайно познакомился с человеком, рассказавшим ему историю, которая легла в основу повести «Судьба человека», и тогда же сообщил райкому партии о своем намерении написать рассказ по этому сюжету. Дальнейшее изложение событий выглядело так: «Прошло десять лет. И вот однажды, находясь в Москве, читая и перечитывая рассказы зарубежных мастеров – Хемингуэя, Ремарка и других, – рисующих человека обреченным и бессильным, писатель вновь вернулся к прежней теме… Не отрываясь от письменного стола, напряженно работал писатель семь дней. А на восьмой – из-под его волшебного пера вышел замечательный рассказ» (цит. по: Шолохов М. А. Рассказы, очерки, статьи, выступления // Собр. соч.: В 8 т. М., 1965. Т. 8. С. 447). Таким образом, речь, возможно, идет о самоцензуре. – Примеч. пер.
2
Шолохов М. Судьба человека // Собр. соч.: В 9 т. М., 1986. Т. 7. С. 557.
3
Youngblood D. On the Cinema Front: Russian War Films, 1914–2005. Lawrence, 2007. P. 124. Больше о значении этого фильма см.: Baraban E. «The Fate of a Man» by Sergei Bondarchuk and the Soviet Cinema of Trauma // The Slavic and East European Journal 51. 2007. № 3. Р. 514–534.
4
Искусство. 1965. № 6; Огонек 1960. № 9. С. 7; Огонек 1965. № 20. С. 32–33. Иллюстрации Петровых вновь опубликованы спустя два года в журнале «Искусство» (Искусство. 1967. № 5. С. 2).
5
Шолохов М. Судьба человека. М., 1964.
6
Петрова В., Петров Л. Конкурс на лучшие иллюстрации к произведениям Шекспира, Брехта, Шолохова, Маршака. // Искусство 1965. № 6. С. 51.
7
В качестве примера подобных исследований можно привести работы ученых, представленные в следующих сборниках: Russian Masculinities in History and Culture / Eds. B. Clements, R. Friedman, D. Heley. Basingstoke, 2001; и О муже(n)ственности: Сб. статей / Сост. С. Ушакин. М., 2002. См. также: Kukhterin S. Fathers and Patriarchs in Communist and Post-Communist Russia // Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia / Ed. S. Ashwin. London, 2000. Р. 71–89; Healey D. Homosexual Desire in Revolutionary Russia: The Regulation of Sexual and Gender Dissent. London, 2001; Edele М. Strange Young Men in Stalin’s Moscow: The Birth and Life of the Stiliagi, 1945–1953 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2002. № 50. Р. 37–61; Тартаковская И. Н. Несостоявшаяся маскулинность как тип поведения на рынке труда // Гендерные отношения в современной России: исследования 1990-х годов: Сб. научных статей. Самара, 2003. С. 42–71; Чернова Ж. Мужская работа: анализ медиарепрезентации // Гендерные отношения в современной России: Исследования 1990-х годов: Сб. научных статей. Самара, 2003. С. 276–294; Хасбулатова О. Российская гендерная политика в ХХ столетии: мифы и реалии. Иваново, 2005; Prokhorova Е. The Post-Utopian Body Politic: Masculinity and the Crisis of National Identity in Brezhnev-Era TV Miniseries // Gender and National Identity in Twentieth-Century Russian Culture. DeKalb, 2006. P. 131–150; Field D. Private Life and Communist Morality in Khrushchev’s Russia. New York, 2007; Bucher G. Stalinist Families: Motherhood, Fatherhood and Building the New Soviet Person // The Making of Russian History: Society, Culture, and the Politics of Modern Russia. Bloomington, 2009. P. 129–152; Pollock E. Real Men Go to the Bania: Postwar Soviet Masculinities and the Bathhouse // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2010. № 1. Р. 47–76; Bureychak T. Masculinity in Soviet and Post-Soviet Ukraine: Models and Their Implications // Gender, Politics, and Society in Ukraine. Toronto, 2012. P. 325–361; Лебина Н. Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР – оттепель. М., 2014. Более всего категория маскулинности осмыслялась в кино. См. об этом, например: Haynes J. How the Soviet Man Was Unmade: Cultural Fantasy and Male Subjectivity under Stalin. Pittsburgh, 2008; Cinepaternity: Fathers and Sons in Soviet and Post-Soviet Film / Eds. H. Goscilo, Y. Hashamova. Bloomington, 2010.
8
О досоветском идеале Нового человека в российском контексте см. сочинения Чернышевского, Добролюбова и Писарева, например: Добролюбов Н. А. Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью // Добролюбов Н. А. Избранные философские сочинения. М., 1945. Т. 1. Чернышевский Н. Г. Общий характер элементов, производящих прогресс // Чернышевский Н. Г. Сочинения. Т. 2. М., 1987. C. 599–623. См. также: Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М., 1996; Rosenthal B. G. Dmitry Sergeevich Merezhkovsky and the Silver Age: The Development of a Revolutionary Mentality. The Hague, 1975; Rosenthal B. G. Nietzsche in Russia. Princeton, 1986; Scherr B. P. God-Building or God-Seeking? Gorky’s Confession as Confession // The Slavic and East European Journal. 2000. № 44. Р. 448–469; Clowes E. The Revolution of Moral Consciousness: Nietzsche in Russian Literature, 1890–1914. DeKalb, 1988; Weiner D. Man of Plastic: Gor’kii’s Visions of Humans in Nature // The Soviet and Post-Soviet Review. 1995. № 22. P. 65–88; Garrard J. The Original Manuscript of Forever Flowing: Grossman’s Autopsy of the New Soviet Man // The Slavic and East European Journal. 1994. Vol. 38. № 2. Р. 271–289; Hellbeck J. Laboratories of the Soviet Self: Diaries from the Stalin Era. Ann Arbor, 2003; Etkind А. Psychological // Culture Russian Culture at the Crossroads: Paradoxes of Postcommunist Consciousness. Oxford, 1996. P. 99–127.
9
Evans Clements B. Introduction // Russian Masculinities in History and Culture. P. 1–2.
10
Connell R. W. The Big Picture: Masculinities in Recent World History // Theory and Society. 1993. № 22. Р. 611.
11
Цит. по: Bailes K. E. Alexei Gastev and the Soviet Controversy over Taylorism, 1918–24 // Soviet Studies. 1977. Vol. 29. № 3. P. 387.
12
Замятин Е. И. Мы // Замятин Е. И. Собр. соч.: В 5 т. М., 2003. Т. 2. С. 218.
13
Boscagli M. Eye on the Flesh: Fashions of Masculinity in the Early Twentieth Century. Boulder, 1996. P. 129.
14
Ibid.
15
Тема физического здоровья и физической культуры, имеющая отношение к представлениям о маскулинности, рассматривается в: Gilmour J., Clements B. ‘If You Want to Be Like Me, Train!’ The Contradictions of Soviet Masculinity // Russian Masculinities in History and Culture. P. 210–222; Starks Т. The Body Soviet: Propaganda, Hygiene, and the Revolutionary State. Madison, 2008; Grant S. Physical Culture and Sport in Soviet Society: Propaganda, Acculturation and Transformation in the 1920s and 1930s. London, 2014.
16
Schrand T. Socialism in One Gender: Masculine Values in the Stalin Revolution // Russian Masculinities in History and Culture. P. 203.
17
Более подробно о взаимосвязи между милитаризмом, героизмом и чествованиями см.: Petrone К. Life Has Become More Joyous, Comrades: Celebrations in the Time of Stalin. Bloomington, 2000.
18
Clark K. The Soviet Novel: History as Ritual. Bloomington, 2000. P. 114–135. Более подробный анализ фигуры Сталина как отца можно найти в работах Катрионы Келли. См., например: Kelly C. Grandpa Lenin and Uncle Stalin: Soviet Leader Cult for Little Children // The Leader Cult in Communist Dictatorships: Stalin and the Eastern Bloc. London, 2004. P. 102–122; Kelly С. Riding the Magic Carpet: Children and Leader Cult in the Stalin Era // The Slavic and East European Journal. 2005. Vol. 49. № 2. Р. 199–224; Kelly С. A Joyful Soviet Childhood: Licensed Happiness for Little Ones // Petrified Utopia: Happiness Soviet Style. London, 2012. P. 3–18.
19
Вот лишь несколько работ, в которых приводится данная точка зрения: Kukhterin S. Fathers and Patriarchs in Communist and Post-Communist Russia // Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia. London, 2000. P. 71–89; Bucher G. Stalinist Families: Motherhood, Fatherhood and Building the New Soviet Person // The Making of Russian History: Society, Culture and the Politics of Modern Russia. Bloomington, 2009. P. 129–152; Koshulap I. Cash and/or Care: Current Discourses and Practices of Fatherhood in Ukraine // Gender, Politics, and Society in Ukraine. Toronto, 2012. P. 362–363; Чернова Ж. Модель «советского отцовства»: дискурсивные предписания // Российский гендерный порядок: Социологический подход / Под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. СПб., 2007.
20
Образцом подобных исследований могут служить следующие работы: Hessler J. A Postwar Perestroika? Toward a History of Private Enterprise in the USSR // Slavic Review 1998. Vol. 57. № 3. Р. 516–542; Zubkova Е. Russia after the War: Hopes, Illusions and Disappointments, 1945–57. New York, 1998; Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: Политика и повседневность. 1945–1953 гг. М., 2000; Filtzer D. Soviet Worker and Late Stalinism: Labour and the Restauration of the Stalinist System after World War II. Oxford, 2002; Edele М. Strange Young Men in Stalin’s Moscow: The Birth and Life of the Stiliagi, 1945–1953 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2002. № 50. Р. 37–61; Pollock E. Stalin and the Soviet Science Wars. Princeton, 2006; Fürst J. Stalin’s Last Generation: Soviet Post-War Youth and the Emergence of Mature Socialism. Oxford, 2011. См. также сборник: Late Stalinist Russia: Society between Reconstruction and Reinvention / Ed. J. Fürst. Oxford, 2006.
21
Bittner S. The Many Lives of Khrushchev’s Thaw: Experience and Memory in Moscow’s Arbat. New York, 2008; Dobson M. Krushchev’s Gold Summer: Gulag Returnees, Crime and the Fate of Reform after Stalin. New York, 2009; Jones P. Myth, Memory, Trauma: Rethinking the Stalinist past in the Soviet Union, 1953–70. London, 2013. См. также: Аксютин Ю. Хрущевская оттепель и общественные настроения в СССР в 1953–1964 гг. М., 2004; Kozlov D. The Readers of Novyi Mir: Coming to Terms with the Stalinist Past. Cambridge, 2013; The Dilemmas of De-Stalinization: Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev’s Era / Ed. P. Jones. New York, 2006.
22
Эксперименты революционного периода рассматриваются в следующих работах: Russian Art of the Avant-Garde: Theory and Criticism 1902–1934 / Ed. J. Bowlt. New York, 1976; The Avant Garde in Russia, 1910–1930 / Eds. S. Barron, M. Tuchman. London, 1980; Lodder C. Russian Constructivism. London, 1983; Gray C. Russian Experiment in Art, 1863–1922. London, 1986; Elliot D. New Worlds: Russian Art and Society 1900–1937. London, 1986; Leniashin V. Soviet Art 1920s–1930s: Russian Museum, Leningrad. Moscow, 1988; Bolshevik Visions: First Phase of the Cultural Revolution in Soviet Russia, Part II: Creating Soviet Cultural Forms: Art, Architecture, Music, Films and the New Tasks of Education / Ed. W. Rosenberg. Ann Arbor, 1990; Вострецова Л. Н. Живопись 20–30-х годов. СПб., 1991; Taylor B. Art and Literature under the Bolsheviks: The Crisis of Renewal, 1917–1924. Vol. 1. London, 1991; Taylor B. Art and Literature under the Bolsheviks: Authority and Revolution, 1924–1932. Vol. 2. London, 1992; Stedekujk Museum Amsterdam: De Grote Utopie: De Russische Avant-Garde 1915–1932. Amsterdam, 1992; Groys B. The Total Art of Stalinism: Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond. Oxford, 1992; Lodder С. Russian Painting of the Avant Garde, 1906–1924. Edinburgh, 1993; Bowlt J., Mitich O. Laboratory of Dreams: The Russian Avant-Garde and Cultural Experiment. Stanford, 1996; The State Heritage Museum, Circling the Square: Avant-Garde Porcelain from Revolutionary Russia. London, 2004; Kiaer C. Imagine No Possessions: The Socialist Objects of Russian Constructivism. Cambridge, 2005.
23
Искусство социалистического реализма, особенно 1930-х годов, получило значительное внимание исследователей. Вот лишь небольшой список работ: Любимова А. Б. Агитация за счастье: советское искусство сталинской эпохи. М., 1985; The Culture of the Stalin Period / Ed. H. Gunther. London, 1990; Bown M. C. Art under Stalin. Oxford, 1991; Robin R. Socialist Realism: An Impossible Aesthetic. Stanford, 1992; Groys B. The Total Art of Stalinism: Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond. Oxford, 1992; Art of the Soviets: Painting, Sculpture and Architecture in a One-Party State, 1917–1992 / Eds. M. Cullerne Bown, B. Taylor. Manchester, 1993; The Aesthetic Arsenal: Socialist Realism under Stalin. New York, 1993; Prokhorov G. Art under Socialist Realism: Soviet Painting, 1930–1950. Roseville East, 1995; Efimova A. To Touch on the Raw: The Aesthetic Affections of Socialist Realism // Art Journal. 1997. Vol. 56. № 1. Р. 72–80; Reid S. Stalin’s Women: Gender and Power in Soviet Art of the 1930s // Slavic Review. 1998. Vol. 57. № 1. P. 137–173; Reid S. Socialist Realism in the Stalinist Terror: The Industry of Socialist Art Exhibition 1935–41 // Russian Review. 2001. Vol. 60. № 2. Р. 15–84; Traumfabrik Kommunismus: Die Visuelle Kultur der Stalinzeit / Ed. B. Groys. Frankfurt, 2003; Kiaer C. Was Socialist Realism Forced Labour? The Case of Aleksandr Deineka in the 1930s // Oxford Art Journal. 2005. Vol. 28. № 3. P. 321–345; Манин В. С. Искусство и власть: Борьба течений в советском изобразительном искусстве 1917–1941 годов. СПб., 2008; Johnson O. A Premonition of Victory: A Letter from the Front // Russian Review. 2009. Vol. 68. № 3. Р. 408–428; Johnson О. The Stalin Prize and the Soviet Artist: Status Symbol or Stigma? // Slavic Review. 2011. Vol. 70. № 4. Р. 819–843.
24
См., например: Clark K. The Soviet Novel: History as Ritual. Bloomington, 2000; Youngblood D. On the Cinema Front: Russian War Films, 1914–2005. Lawrence, 2007. См. также работы Сьюзан Рейд: Reid S. 1) Stalin’s Women: Gender and Power in Soviet Art of the 1930s // Slavic Review. 1998. Vol. 57. № 1. P. 137–173; 2) Masters of the Earth: Gender and Destalinisation in the Soviet Reformist Painting of the Khrushchev Thaw // Gender and History. 1999. Vol. 11. № 7. P. 276–312; 3) Socialist Realism in the Stalinist Terror: The Industry of Socialist Art Exhibition, 1935–41 // Russian Review. 2001. Vol. 60. № 2. Р. 153–184; 4) Modernizing Socialist Realism in the Khrushchev Thaw: The Struggle for a ‘Contemporary Style’ in Soviet Art // The Dilemmas of De-Stalinization: Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev Era. New York, 2006. P. 209–230.
25
Детальное рассмотрение творчества К. Симонова и в целом о реакции литературы периода оттепели на травмы сталинской эпохи см.: Jones P. Myth, Memory, Trauma: Rethinking the Stalinist past in the Soviet Union, 1953–70. London, 2013. Особенно р. 173–211.
26
Цит. по: Sidorov А. The Thaw: Painting of the Khrushchev Era // The Museum of Modern Art, Oxford, Soviet Socialist Realist Painting 1930s–1960s: Paintings from Russia, the Ukraine, Belorussia, Uzbekistan, Kirgizia, Georgia, Armenia, Azerbaijan and Moldova / Selected by Matthew Cullerne Bown. Oxford, 1992. Р. 34.

