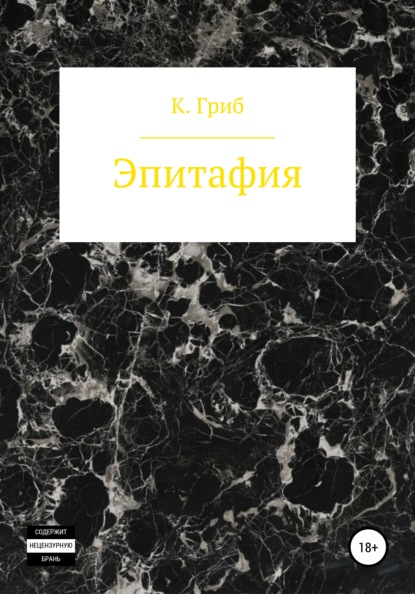По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Эпитафия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Здесь, посреди ничего, возникло странное чувство… Тоскующий холод, ледяная вода, но колит оно больнее огня. Из мира живых звенит пение батюшки, медь, кадило, это красиво и сладко, прекрасно тем, что это пение сумело заглушить и скрыть тошнотворные рыдания. Но ледяная вода, не слабнет… Боль холода намного сильнее предыдущих, она направленна точно на меня и знает куда бить.
– Смерть, что за пытка меня охватила, откуда она взялась, почему она настолько сильна?
– Это душа взяла на свои плечи ношу земных грехов, по крайней мере, так она думает.
Теперь все понятно – предательство, вот какой груз мучает меня. Только кого я предал, себя или Елену, кого уничтожил своим предательством? Батюшка окончил пение и объявил прощальное целование, самый странный обычай, что я видел… Вот, слышу первый поцелуй, из моей памяти вспыхнула нежным чувством Елена и моментально исчезла, взволновав ледяную воду. Второй поцелуй и перед глазами промелькнула беспечная Маргарита, вода обращается в лёд и заковывает меня, лишая возможности двигаться. Третий поцелуй, наивная Лиза, лёд окреп и стал непобедим, как камень. Холод колит намного острее, и я понял в чем его секрет. Огню суждено отдавать свой жар, и он способен принести пытку только дав его больше меры, но он никогда не оставит тебя пустым. Холоду же свойственно природой вещей, всё поглощать, забрать и без того малое… Этот холод поедает меня и даже не дает возможности сопротивляться. Я пустой.
Шелест с разных сторон, редкие удары по резонирующему дереву – гроб спускают в могилу. До меня доносится множество искривленных голосов и даже щелчки затворов фотоаппаратов – вся разница в смерти знаменитого и безвестного. Снова певчий голос батюшки, он поёт якобы для бога, а не для людей, но едва ли богу есть дело до этих песен, обрядов и до какого-то из своих рабов. Раб, так меня называет батюшка, но разве я кому-то служил при жизни? Нет, я сам придумывал себе задачу, сам её пытался решить и сам награждал себя за успех или наказывал за неудачу. Я был собственным рабом. Голос закончил петь, обряд близиться к концу.
– Бросьте каждый по три жмени земли на гроб усопшего.
Как крупный град бьется в стекло, хаотичный стук разрастается из полной тишины в шумный бой и обратно стихает в незаметный фон. Звукам уже сложно пробираться сквозь такую толщу земли. Затихло. Теперь плотные удары барабана – лопаты и они тоже начинают затихать. Совсем едва доносятся эти раскаты грома до меня и уже почти навсегда исчез плачь. Плачь исчез, барабаны тухнут. Всё, тишина. Абсолютная тишина и я её заложник.
Лёд заколол с новой силой, но я не способен корчиться от боли и даже кричать, оно другого порядка, нежели земная боль. Да и будь земной, было бы от неё спасение, но не тут, из этой пустоты некуда бежать.
– Смерть, как мне избавиться от этой чудовищной, ледяной пытки?
– Прости себя за те моменты, когда ты не знал, как будет лучше. Я надеюсь, ты сможешь её побороть… У тебя осталось всего три дня, ещё есть куда двигаться. Хватайся за нить, будем надеяться, что оставшиеся воспоминания вытянут тебя из этой ловушки.
XXXII
С того дня, как мы переехали в Чикаго и заселились в этот муравейник, меня постоянно мучают кошмары. Порой они не имеют знакомой человеку формы и представляют из себя только смысл слов или подлинные чувства, в другой раз мне сниться живописный фильм, но одно во всех снах неизменно – ужас охватывает до потрясения.
Очередная ночь, я ложусь в кровать и мечтаю хотя бы этой ночью ничего не увидеть, избежать. Да, я мог бы жаловаться на реальную жизнь, тяжёлую работу или на наш неблагополучный район, но сейчас это ничто в сравнении нависшим надо мной ужасом ночи. Самый страшный вид пыток – пытки в твоей собственной голове, потому что от них нет лекарства, от них не убежишь домой и не спрячешься под одеялом, они всегда тебя нагонят. Накатывается пелена, сон застилает жизнь.
Тёмная комната, я в панике рыскаю в ней на ощупь, не зная, что ищу. Что-то острое режет руки, что-то холодное. Дальше, дальше. Я вожу кровоточащими руками по полу, стенам, шкафам и не могу найти. Вот оно! Что-то тёплое, это человек, его я искал… Мои глаза привыкли к темноте и начинают видеть, в центре комнаты застывшая в истерике Елена, её сердце бешено колотиться, выпуская обжигающий пар во все стороны. Я каменный, застыл смотря на её.
Рывок. Всего лишь сон. Холодный пот стекает со лба и солью во рту говорит о себе. Руки дрожат. Моё тело знает, что делать. Ноги бросаются по чёткому маршруту, а руки, едва успевая, хватают холст и кисти. Раздвинул занавески и в лунном свете пишу, в страшной спешке, руки всё ещё дрожат. Мало, нужно два холста, так мне успеть! Снова руки не мои, я тайком смотрю со стороны на продвигающуюся работу, мне уже не страшно, оцепенение от сна прошло. Ночь пролетает быстро, пока художник пишет я смотрю в окно и едва успею замечать скорость, с которой поднимается солнце и скрываются в свете звезды. Художник закончил, возвращает меня, позволяет посмотреть поближе.
Картина слева – “Первая сердечная”. В центре бешеное человеческое сердце, его артерии перевязаны синей изолентой, из-под которой сочиться густая кровь. Множество металлических трубок жестоко ввинчены к сердцу, высасывая из него сок. На левом желудочке дергается какой-то измерительный прибор, красная стрелочка перегнула правый низ с надписью max. От жара её работы всё вокруг в жарком пару, и трубочки настолько горячие, что испаряют кровь, которой касаются.
Вторая картина – “Оковы любви”. На ней мужское запястье плотно оплетено шипастым стеблем розы, как колючей проволокой. Кровь стекает ручейками в кулак, который сжимает синюшными пальцами бутон цвета крови. Из кулака сыплется струйка пепла.
Всё готово, и я спешный, бегу с картинами в ванную, нужно сжечь эти кошмары. Да, так я верну себе сон, и, если они явятся снова, я повторю это… Артур, он остановил меня, такой сонный, тоже кошмары?
– Эшь, ну и куда ты?
–Нужно, сжечь! Чтобы не было кошмаров. – Спешный, безумный.
– Я понимаю, но они ведь не высохли. Кошмары уже в ловушке, им не выбраться из картины, но если сжечь мокрую… Ты ведь так все испортишь, они успеют сбежать!
– Да, ты прав… Как я сам не подумал. Сожгу завтра!
Это ведь так очевидно, они ведь уже заперты, им не сбежать! Теперь я чувствую, что способен уснуть, как хорошо. Есть ещё пару часов на сон, использую.
Проснулся и снова, что-то не так! Бегу к мольберту, пусто! Шкаф, ванная, кровать, кладовка, стол, балкон, холодильник. Нигде нету… Ничего не помню. Бегу к Артуру, он наверняка поможет.
– Где картины? –Крик, я хотел просто спросить, но он понял!
– Ты же сам меня не послушал и пошел с ними на улицу, я ещё тебя отговаривал, не помнишь? – Пауза и новая интонация, забота. – Эшь, тебе нужно к врачу, совсем память просела. То забудешь, что тут русский никто не понимает, то в воскресенье на работу собираешься. Вчера же ты вообще, голос матери не узнал!
–Да, ты прав. Как будет время…
XXXIII
Великая тьма и совсем никаких звуков. Не удивительно, ведь теперь моё тело покоится в гробу на глубине чуть больше двух метров Эта глубина не случайна, во время чумы было решено закапывать трупы так глубоко, чтобы защитить себя от инфекции. Пусть так, я тоже защищен от всех, кто захочет поговорить со мной снаружи. Душа же купается в ледяном коктейле из скорби, печали, уныния и страха. Ледяная пытка никуда не делась, множится по экспоненте и не видит предела росту. Страх, какой он глубокий, куда он ведёт? Неужели этот страх смерти и побуждает столь многих увидеть её скорее, дикость. Я готов всё отдать, чтобы отодвинуть этот срок… Мои дни сочтены, как это возможно?..
– Смерть, я так сильно боюсь, не способен рассказать, насколько посмотри сама… Мои воспоминания почти закончены, клубок уже истощен и немощен – жизнь почти закончилась! А я ведь даже и не жил, только сейчас я есть, почему? Где я был раньше, отчего мне не хватило жизни? Меня поедает отчаяние… Дай мне надежду смерть… Просто скажи, что будет дальше?
Смерть жутко улыбнулась, подошла ближе ко мне и говорит очень тихо, что бы не напугать. Пение, она как будто поёт колыбельную, надеясь смягчить смысл слов.
– Ты ведь сама знаешь ответ, просто боишься признать его. С самого рождения вы, люди, знаете, чем закончиться ваша жизнь и целую жизнь ищете правдоподобный самообман. Сорок дней – это твоё время: время на познание, наслаждение, боль, экстаз, бунт, жизнь и смерть. Дальше не будет ничего с твоей точки отсчёта, мир продолжит существовать, ведь вовсе не был его деталью, играл роль лишь своей судьбы. Да, ты оставишь свои пожитки в этом странном, пустом мире, но для тебя это уже ничего не будет значить, как в целом, не будет значит ничего и для самого мира, ему плевать на эти пожитки. Как думаешь, почему я наставляла тебя на сбережение счастья, простое наблюдение и понимание? У тебя не так много времени, чтобы упиваться страданиями, упуская наслаждения. Пока у тебя есть возможность жить, ты должен бороться и наслаждаться, делать то, чего бы ты хотел сам, остальному придёт своё время. Важнее же всего то состояние души, из которого она рассыплется. Это состояние станет вечной точкой в конце твоего пути. Так пусть она будет наполнена наслаждением и смирением!
Эти слова, сами по себе они не ранили меня. Но они запустили процесс во мне и уже мои собственные мысли представляют опасность для моего существования. Значит всё это не имело смысла, ни к чему не вело и совсем скоро меня перестанет волновать самая важная на данный момент сущность – я сам. Смерть вглядывается в меня, знакомо.
– Скажи душа, ты счастлива?
– Нет, но я глубоко сожалею, что не смог ухватить счастье.
– Жаль.
В моих руках нить и я знаю, что тянуть её теперь очень глупо, бессмысленно, пустая трата сил и времени. Всё равно дёргаю. Это всё что у меня осталось, бессмысленное движение к своей пропасти.
XXXIV
Кто бы мог подумать, что наша мечта обернётся так лихо и подло, что счастья в ней не останется совсем. Особенность жизни, добиваться цели на которой ты построил воздушные замки, ничего не зная о реальности этой цели и так же свойственно для жизни разочаровываться при достижении этих целей. Так вышло и у нас. Весь день работа, с утра до самой ночи. Возвращаясь домой, я едва успеваю подготовить хотя бы один холст, на случай кошмара… Я дома, нет времени на безделие, иначе холст не будет готов, и я буду уязвим перед сном. Раз, два – подрамник холста. Три, четыре – тканью накрыли. Пять, шесть – степлер есть. Семь, восемь – грунт наносим.
И каждая моя ночь оборачивается очередным кошмаром. Худшие из них те, в которых нет ничего кроме темноты и гнетущей, мучительной пытки в виде первородных чувств. Постоянно я пишу, каждую ночь заточаю свои кошмары и не могу вспомнить… Никогда не могу вспомнить, как избавляюсь от этих кошмаров!
Очередная ночь, значит меня ждёт очередной кошмар, и я готов к этому… Холодный ужас, застывшая кровь начинает пульсировать. Как и всегда подскочил, как и всегда, не я расписал этот холст, как и всегда я оставил его сохнуть. Утро, как и всегда он пропал… Я ничего не помню, знаю только, что рисовал, держал в руках кисти, но не помню… Иду в комнату Артура, может он что-то помнит. Зашёл без стука, его это всегда злит, но я забываю, всегда. Он подскочил ко мне и встал напротив дверцы раздвижного шкафа, закрыв её собой, кажется я его напугал. Он закрыл шкаф, и я не могу понять, правда ли я увидел в шкафу свою картину? Просто спрошу, да так будет лучше всего, Артур никогда не лгал, ему я могу доверять больше, чем своим глазам.
– Хей, Артур. У тебя там в шкафу, случайно не моя картина? Мне просто пок…
–Боже, Эшь. Ты меня до усрачки напугал, я же просил тебя стучаться. Видел бы ты себя, весь измазан краской! И нет, там нет никаких картин, но смотреть внутрь не стоит. У меня есть пару секретов, о которых… Ну ты понимаешь…
– Я снова не помню куда дел картину, точно писал…
– Друг, тебе правда стоит сходить к врачу. Давай я тебя запишу? Не нужно с этим медлить, месяц другой и ты уже меня не узнаешь!
– Нет. Я просто напишу картину о моей забывчивости, но спасибо.
Как жалко, что Артур не умеет рисовать и ему постоянно приходится ходить к врачам, тратить деньги и столько времени на лечение. Я бы хотел его научить, но сам не умею, все эти картины хоть и написаны моими руками, я не знаю, как их писать…
Раздался звонкой двойной хлопок, за которым всё начало стягиваться. Смерть зовёт меня…
XXXV
Меня снова окунуло на дно ледяного озеро, заковало в кандалы колючих айсбергов и без капельки милосердия начало терзать. Во тьме я вижу смерть, она ликует в грациозном танце, на её лице радость. Заметив меня, не сменив веселья она подошла, тепло и радостно заговорила.