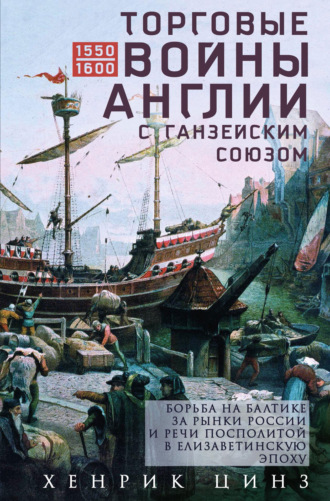
Торговые войны Англии с Ганзейским союзом. Борьба на Балтике за рынки России и Речи Посполитой в Елизаветинскую эпоху

Хенрик Цинз
Торговые войны Англии с Ганзейским союзом.
Борьба на Балтике за рынки России и Речи Посполитой в Елизаветинскую эпоху
© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2025
© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2025
Введение
Елизаветинская эпоха во многих отношениях явилась поворотной в истории Англии. Прежде всего это было время экономического подъема, когда соотечественники Шекспира были вынуждены искать новые рынки сбыта в различных частях тогдашнего мира. Это означало завоевание большей инициативы в открытом море и окончательное сведение счетов с Испанией после поражения Великой армады в 1588 г. Эта победа положила начало английскому господству в Атлантике. Елизаветинская эпоха вместе с тем была также временем огромного прогресса в области английской культуры, временем расцвета литературы эпохи Возрождения и достижений в театре, искусстве и науке, а также во всех материальных и художественных сферах. Этот примечательный прогресс цивилизации был в значительной степени результатом экономического и социального развития Англии в XVI в. После катастрофической для Англии Столетней войны и приведшей к значительным разрушениям в экономике, а также к политическому хаосу Войны Алой и Белой розы в XVI в. страна начала восстанавливаться, но очень медленно и в основном за счет роста среднего класса, дворянства и простых горожан, бывших одним из столпов монархии Тюдоров. Одним из наиболее заметных проявлений экономического роста елизаветинской Англии и предпосылкой ее дальнейшего значения в мировой экономике и политике стало развитие ее внешней торговли во 2-й половине XVI в.
Северная Европа, земли вокруг Северного и Балтийского морей, была одним из первых и поначалу важнейших районов торговой экспансии Англии. В течение длительного периода ее торговля с близлежащими Нидерландами и Северо-Западной Германией оставалась в руках иностранцев, несмотря на ее ранний опыт организации собственных торговых компаний (Стапельная компания, Компания лондонских купцов-авантюристов). Ее торговая экспансия в Прибалтике была достигнута после ожесточенной борьбы с могущественным Ганзейским союзом, который долгое время играл в этом регионе доминирующую роль и выступал в качестве раздражающего посредника в торговле Англии со странами Балтии. В ранних отношениях Англии с Прибалтикой можно выделить два довольно определенных периода. Первый, продолжавшийся с конца XIV до конца XVI в., знаменовал длительную и решительную борьбу Англии за слом монополии немецкой Ганзы и за достижение более независимого положения в ее торговых отношениях со странами Балтии. Параллельно с попытками ограничить привилегии Ганзы в пределах ее собственных границ она предпринимала настойчивые попытки получить и сохранить в Балтийском регионе постоянную базу, перевалочный пункт для своей торговли. В этой борьбе она стремилась захватить прибыльный балтийский рынок для сбыта тканей собственного производства, а также доступ к богатому источнику поставок необходимых для судостроения сырья и полуфабрикатов, таких как древесина, такелаж, лен и пенька, железо, деготь и смола, а также зерна во времена неурожая на родине. Таким образом, кульминация борьбы, естественно, пришлась на годы, ознаменовавшие начало расширения ее торговли и мореплавания, в эпоху Тюдоров, но особенно в царствование Елизаветы I. Эти годы были свидетелями не только борьбы Англии с Испанией и многочисленных путешествий английских мореплавателей и пиратов – Фрэнсиса Дрейка, Уолтера Рэли, Фробишера, Гилберта и других, но и настойчивых попыток и маневров со стороны английских купцов по созданию коммерческих организаций для торговли, иногда с отдаленными частями Европы и мира. В определенной степени предварительным условием позднейшей мировой экспансии Англии было свержение ганзейского господства и получение тюдоровскими купцами большей доли в торговле Северной Европы. И именно в районе Северного, Балтийского и Белого морей они приобрели свой первый организационный опыт.
Второй период в отношениях Англии с Прибалтикой относится к началу XVII в., и в смысле принятых форм и методов он несколько отличался по своей природе от предыдущего. В этот период Балтика все еще представляла значительный, хотя и постепенно уменьшающийся, интерес для Англии как рынок, удовлетворяющий ее основные потребности в товарах для военно-морского флота, хотя она была владычицей морей и развивала политику и торговую экспансию в мировом масштабе. В течение XVII в. Балтика также стала важным фактором внешней политики Англии, которая, оказавшись во время Первой англо-голландской войны и борьбы за господство в Балтийском море под угрозой из-за того, что была отрезана от импорта из Прибалтики, стала активно заниматься в этом регионе дипломатической деятельностью, следуя своей исторической политике, направленной на поддержание баланса сил в Европе. Ключ к пониманию основных мотивов политики Англии в отношении Балтии в те годы помогут найти слова, сказанные Оливером Кромвелем перед парламентом в 1658 г.: «Если они смогут закрыть нам доступ к Балтийскому морю и станут его хозяином, где ваша торговля? Где ваши материалы для сохранения вашего судоходства?»
Настоящая работа посвящена первому периоду отношений Англии со странами Балтии, но в особенности Елизаветинской эпохе, когда ей удалось исключить из своей балтийской торговли Ганзу и создать собственную торговую компанию для развития обмена с Прибалтийскими странами. После обсуждения ранних отношений Англии с этими странами и англо-ганзейского соперничества в первых пяти главах указываются политические, экономические и социальные факторы, которые привели в 1579 г. к основанию Истлендской компании и захвату ее управления богатыми лондонскими оптовиками. Главы 6—10 целиком посвящены анализу балтийской торговли Англии во 2-й половине XVI в., ее организации и английскому мореплаванию на Балтике. Таким образом, нас прежде всего интересует торговля Англии со странами Балтии, но особенно с Польшей, на которую приходилась наибольшая доля английской балтийской торговли. С 1579 г. эта торговля была организована через Истлендскую компанию. Таким образом, по сути, наша работа касается прежде всего английской торговли с Речью Посполитой, которая, с портами Гданьска (Данцига), а затем Эльблонга (Эльбинга), была доминирующим фактором в балтийской торговле с западными странами в рассматриваемый период. Кроме торговли с Польшей, учитывается и торговля Англии с Россией в гораздо более широком масштабе, особенно в связи с проблемой нарвского судоходства, с целью установления относительных пропорций польского и русского рынков в английской балтийской торговле.
С другой стороны, сравнительно мало места уделено проблемам английской торговли со Скандинавскими странами, которые еще не получили значительной доли в торговле Англии или развивали ее за пределами Балтийского региона и имели лишь несколько записей в таможенном реестре. Только Норвегии, как поставщику в Англию древесины, уделено значительно больше внимания на основе английских портовых книг. Характер и состояние сохранившихся источников означали, что наша работа связана главным образом с балтийской торговлей, осуществляемой английскими купцами, а не с балтийской торговлей Англии в целом, которую невозможно охватить более полно из-за существования иностранных посредников, в особенности голландцев, а также роли Амстердама как крупного склада и пункта распределения балтийских товаров. Из-за пробелов в английских портовых книгах и отсутствия общих расчетов совокупного объема импортной и экспортной торговли Англии в XVI в. наш анализ английской балтийской торговли во многих случаях основывался на материалах, имеющихся в Лондоне, Халле, Ньюкасле и других портах Восточной Англии, а не Англии в целом. Полное представление английской балтийской торговли было возможно, только если взять за основу регистры таможенных пошлин за проход по проливу Зунд, но они могли обеспечить достаточно надежный критерий только в отношении английского экспорта (см. вступительные замечания к гл. 7).
В географическом плане наша работа охватывает Балтийское море, регион, ограниченный проливом Зунд и лежащий за ним, как это определено в английских документах того времени, но особенно в хартии Елизаветы 1579 г., в которой была определена область монополии Истлендской компании. Назвав Данциг самым важным портом в этом районе, эти документы отождествили торговлю Англии на Балтике с ее обменом с Данцигом и, следовательно, с Польшей. (Этот момент будет рассмотрен позже.) Пытаясь определить эту экономическую зону, мы должны согласиться с Маловистом, что в XVI в. Балтика была в первую очередь регионом, эксплуатируемым западноевропейским капиталом. Этот капитал, который с конца XV в. был в основном голландским, но со 2-й половины XVI в. во все большей степени стал также английским, получал из этого района сырье и полуфабрикаты, необходимые для развития западной промышленности. Можно согласиться с тем, что отличительной чертой Балтийского региона в то время было то, что он был источником поставок сырья и полуфабрикатов, таких как сельскохозяйственная продукция, древесина и все виды лесной продукции, необходимые для развития промышленного производства в Северо-Западной Европе.
Главы этой работы, посвященные анализу торговли Англии с Балтикой, охватывают период с 1562 г. по конец XVI в., хотя для получения более полной картины анализ иногда значительно выходит за эти хронологические рамки. Первоначальная дата устанавливается по опоре на основной источник: регистры таможенных сборов за проход по проливу Зунд содержат подробные данные о товарах, проходящих через Зунд, только начиная с 1562 г. С другой стороны, окончательная дата устанавливается на основе анализа торговли Англии с Балтикой, которая после заметного роста во 2-й половине XVI в. к концу периода начала проявлять явные признаки кризиса. На рубеже XVI в. экспорт английских тканей в Прибалтику начал сокращаться – отчасти из-за усиления конкуренции со стороны Голландии, а отчасти из-за развития местной суконной промышленности, особенно в Силезии. Английское сукно, составляющее основу всей торговли Англии, становилось слишком дорогим для прибалтийских потребителей, и с начала XVII в. его экспорт в этот регион все более серьезно сокращался. На рубеже XVI в. голландская конкуренция также начала сказываться на торговле Англии с Москвой через Архангельск, что постепенно лишило английских купцов их роли в этой торговле. Таким образом, период, охватываемый нашей работой, – это сравнительно короткий промежуток времени, в течение которого Англия играла важную роль в торговле на Балтике, после устранения ганзейских посредников и разрушения ганзейской монополии, но до того, как Голландия полностью завладела балтийским судоходством и торговлей, которые уже были значительными и в XVI столетии.
В заключение, возможно, следует подчеркнуть, что целью данной работы было освещение более широкого аспекта англо-балтийских торговых и политических отношений с точки зрения истории елизаветинской Англии на фоне социально-экономического развития страны в переломный момент, озна меновавший начало ее экономической и политической экспансии, а также быстрое развитие торговли Англии и ее купеческого класса. По этой причине я счел целесообразным не перегружать текст такими хорошо известными и довольно мелкими проблемами, как антагонизм между Данцигом и Эльбингом или попытки Истлендской компании добиться от польского двора подтверждения английской фактории в Эльбинге. По тем же причинам были проигнорированы общеизвестные проблемы, связанные с анализом социально-экономических изменений, произошедших в странах Балтии в XVI в., а также проблемы торговли и коммерческой политики этих стран, поскольку они не были напрямую связаны с основной темой книги. Чтобы сделать работу читабельной и освободить текст от балласта большого количества статистических данных, был составлен ряд таблиц, содержащих количественные данные о торговле Англии на Балтике, английском судоходстве на Балтике и т. д. Подавляющее большинство таблиц содержит информацию, никогда ранее по этой теме не публиковавшуюся, информацию, основанную на различных видах таможенных документов, которые не всегда легко доступны или разборчивы (особенно это относится к английским портовым книгам), что является нашим оправданием для включения относительно большого объема такого статистического материала.
Глава 1
Ранние торговые отношения между Англией и Прибалтикой до середины xvi в.
Письменные источники, свидетельствующие об интересе Англии к Балтике, существуют еще со времен Альфреда Великого. С IX в. сохранился хорошо известный рассказ о путешествии Вульфстана в Трусо и в землю пруссов. Этим периодом также датируется название Эстланд (земля эстов), и вместе с этим названием позже в английский язык вошел термин «Истленд». Примерно с XIV в. Балтийский регион, особенно Гданьское Поморье (Данцигская Померания), обозначался «Эстляндия». В английских источниках эти регионы определяются как «восточные страны», или «восточные земли», поскольку их важнейшим торговым центром был Данциг (Гданьск) с его огромными польскими внутренними районами; в XVI в. их также называли «восточными странами, или Данске», или «Данске и восточными странами», и даже «Данске, или Истлендом». Отсюда и официальное название Истлендской компании, основанной английскими купцами в 1579 г. для развития балтийской торговли, – «Управляющий, помощники и товарищество купцов Истленда».
Торговые отношения Англии со странами Балтии были одними из старейших, наиболее постоянных и прочных в ее ранней истории. В отличие от торговли со Средиземноморьем, порты которого поставляли в основном предметы роскоши, Балтика издавна привлекала внимание английских купцов как богатый источник поставок продуктов питания, в особенности зерна, а также необходимого для строительства английского флота сырья. Вместе с Северным морем Балтийское море составляло в XVI в. важнейшую область английской торговли.
Интерес Англии к балтийской и северной торговле, к торговле с Польшей и Россией ознаменовал начальный этап ее экономического роста в более широком масштабе. Хотя эта торговля была явно второй по важности после ее торговли с Нидерландами, которая долгое время имела основополагающее значение для ее экономических потребностей, по сути это было первое важное предприятие английских купцов на широких морских путях, успешная со стороны английской торговли попытка стать независимой от иностранных посредников.
В XV, XVI и XVII вв. сами англичане снова и снова подчеркивали важность балтийской торговли для своей национальной экономики, называя балтийские страны «корнем» и житницей всей своей морской торговли. В длинной поэме, озаглавленной «Клевета на английскую Польшу», опубликованной в 1436 г., указывалась существенная ценность и разнообразие товаров, импортируемых из Пруссии, и среди товаров, которые в течение многих лет импортировались из Данцига, упоминались железо, медь, сталь, древесина, брус, деготь, дегтярная смола, лен, кожи, меха, холст, пиво, мясо, воск и т. д.
Ячмень и бекон из Пруссии добрый…Из олова утварь, медь, древо и сталь,И воск, суровьё, и деготь, и ленИз Кёльна сукно, бумазея и холстСейчас привезли, как возили всегда.Это произведение также привлекло внимание к роли балтийского рынка в экспорте английских тканей. В начале XVI в. два трактата, предположительно написанные Клементом Армстронгом, в сходных терминах суммировали важность Балтийского региона, особенно Пруссии, для Англии. Интересно заметить, что с конца Средневековья в английский язык для обозначения ели вошло слово spruce (Пруссию в то время в Англии называли «Еловой страной» (Spruceland)), что свидетельствует об общей ассоциации Пруссии с определенными видами древесины, импортируемыми из Польши.
Дипломаты, писатели-экономисты и купцы в XVI и XVII вв. отмечали, что значение балтийского рынка для Англии заключалось прежде всего в экспорте материалов для судостроения и импорте тканей. В 1568 г. два английских купца, Томас Баннистер и Джеффри Дакетт, обратили внимание Уильяма Сесила на выгоды, которые можно получить от московской торговли: они писали, что, развивая эту торговлю, можно было бы освободить Англию от ее большой зависимости от Данцига в отношении импорта снастей, мачт, парусов, дегтя и т. д., так жизненно важных для английского флота. Сесил, тайный советник и государственный секретарь Елизаветы, довольно хорошо знал важность балтийского рынка в этом отношении и придерживался мнения, что «товары, которые мы привозим из восточных стран, необходимы для применения в этой стране».
Ничто лучше не характеризует важность торговли с Польшей для елизаветинской Англии, чем дипломатическая деятельность Англии в 1590 г. Через своего посла в Турции Эдварда Бартона Англия пыталась убедить султана отказаться от запланированного нападения на Польшу, поскольку ей требовалось много польских товаров, которые «были необходимы для флота». В случае войны с Турцией, утверждал Бартон, Польша приостановит экспорт этого сырья в Англию, а это, в свою очередь, может привести к тому, что Англия откажется от помощи Нидерландам во время борьбы этой страны с главным врагом Турции – Испанией. В письме к Елизавете султан признался, что воздержался от нападения на Польшу по просьбе королевы, так как, помимо прочего, не хотел быть причиной ограничения вывоза из Польши таких товаров, как мачты, порох, зерно и т. д., которые, по его мнению, были нужны Англии в войне с Испанией.
Не только высказывания дипломатов и купцов, но и наблюдения английских путешественников, иногда живших в Польше по многу лет, подчеркивали важность торговли с Речью Посполитой и Прибалтикой. Два из них заслуживают более подробного упоминания: опубликованный в 1593 г. рассказ Файнса Морисона и книга 1598 г. Уильяма Брюса. Оба писателя выразили изумление по поводу природных богатств Речи Посполитой и дешевизны польских товаров. Брюс называл Польшу «общим зерновым хранилищем и арсеналом всей Европы», особенно в отношении военно-морских запасов. Но он был удивлен, что страна, столь богатая сырьем и изобилием продуктов, которые искали по всей Европе, вовсе не была богатой; он объяснял такое положение дел выгодами, которые портовые города, особенно Данциг, получали от экспорта польских товаров.
События, связанные с основанием Истлендской компании во времена Елизаветы I, не положили начало торговому проникновению Англии в Прибалтику. Английские купцы заходили туда еще в XIII в., о чем свидетельствует, среди других источников, голландское предложение Любеку в 1286 г. полностью закрыть Балтику для англичан. Сами английские купцы указывали на конец XIII в. как на начало отношений Англии со странами Балтии, особенно с Поморьем (Померанией). Но у нас нет никакой дополнительной информации по этому вопросу, и кажется, эти отношения усилились и приобрели большее значение только в XIV в. Сами англичане, и в частности Истлендская компания, в 1659 г. утверждали, что их предки начали торговать с Прибалтикой только в середине XIV в. Из утверждений в некоторых документах, безусловно, следует, что с начала XIV в. английские граждане часто приезжали в Данциг, нередко селились и приобретали там гражданские права.
Английские купцы плыли на Балтику с сукном; экспорт этого товара значительно увеличился во 2-й половине XIV в. А привозили они, главным образом из Данцига и Эльбинга, смолу, поташ, древесину, зерно и другие продукты польского и померанского происхождения, а также древесину из Норвегии. В XIV в. англичане также прибыли в Прибалтику в качестве рыцарей, чтобы помочь Тевтонскому ордену в его борьбе с Литвой, что отметил Чосер в «Кентерберийских рассказах» в описании рыцаря:
Он с королем Александрию брал,На орденских пирах он восседалВверху стола, был гостем в замках прусских,Ходил он на Литву, ходил на русских,А мало кто – тому свидетель Бог —Из рыцарей тем похвалиться мог…Помимо путешествий отдельных английских купцов в Прибалтику и особенно в Данциг, к концу XIV в. мы наблюдаем первые попытки организовать эту деятельность в форме, напоминающей позднейшие торговые компании. В конце XIV и начале XV в. в Англии были выданы «привилегии», и это было первое официальное признание так называемых регулируемых компаний – компаний, деятельность которых регулирует государство. Это были монополистические торговые организации с достаточно рыхлой структурой, их участники вели индивидуальную торговлю, в отличие от более поздних акционерных обществ, имевших централизованную структуру и в которых торговали сами компании. Привилегии конца XIV и начала XV в. охватывали торговлю Англии с Северным и Балтийским морями, и это ясно указывает на то, что эти районы были самыми ранними регионами первой торговой экспансии Англии за рубежом. Самый старый из этих документов был выдан Ричардом II в 1390 г. английским купцам, торговавшим с Пруссией и другими странами Балтии. Им было предоставлено право свободной торговли на территории земель Тевтонского ордена и право захода во все прусские порты ордена.
На данном этапе следует подчеркнуть, что с самого начала все торговые предприятия Англии в Прибалтике столкнулись с антагонизмом доминирующей торговой державы в Северной Европе – Германского Ганзейского союза, ревниво охранявшего свое господство в этом районе. Английская экспансия в Прибалтике осуществлялась на фоне острого соперничества с Ганзой; основание Истлендской компании было последней главой в этой борьбе, оно было одним из признаков краха Ганзы.
Тот факт, что ганзейские купцы обладали обширными привилегиями в Англии, вызвал реальные трудности в ее отношениях с Ганзой и территорией, находившейся под ее торговым контролем. Эти привилегии были получены в первые дни контактов Ганзы с Англией, и особенно во времена Эдуарда I, с его привилегией 1303 г., озаглавленной Carta Mer ca to ria («Торговая хартия»), которая предоставила, среди прочего, права розничной торговли, прямого обмена с иностранцами и т. д. Эдуард III значительно расширил объем привилегий, предоставленных Ганзе его предшественниками Плантагенетами, освободив ее купцов от различных повинностей, в результате чего в начале XV в. ганзейские купцы платили более низкие таможенные пошлины на экспорт английских тканей, чем сами английские купцы. В этих условиях вследствие слабости английского купечества Ганза имела значительную долю в посреднической деятельности, связанной с балтийской торговлей Англии, и в соответствии со своей монополистической политикой не позволяла английским купцам хотя бы частично пользоваться аналогичными выгодными привилегиями в Данциге и других городах – членах Ганзейского союза. Поэтому неудивительно, что с конца XIV в. попытки Англии получить большую долю в балтийской торговле неоднократно подкреплялись ссылками на принцип, согласно которому ее купцы должны иметь в ганзейских городах те же права, которыми Ганза пользовалась в Англии, а в случае если Ганза откажется, ее следует лишить особых прав, которыми пользуется ее лондонская резиденция, Стальной двор (Staalhof). Но это было радикальное требование и в то время не очень реалистичное. До Елизаветинской эпохи Англия была слишком слаба в сфере балтийской торговли, чтобы обеспечить соблюдение этого принципа. Тем не менее в постоянных конфликтах с Ганзой по вопросу о взаимных правах английских и ганзейских купцов Англия регулярно и последовательно выступала и защищала его. Можно добавить, что в случае с Данцигом, который был главным противником английской торговой экспансии в Прибалтике, бывали времена, когда английские купцы оказывались в более благоприятном положении, поскольку на политику этого города в отношении них влияли две противоречивые тенденции. Данциг пытался не допустить проникновения англичан на местный рынок, но одновременно даже во время жесточайших англо-ганзейских конфликтов стремился поддерживать торговые отношения с Англией, поскольку они были очень выгодны городу. Помимо растущего отсутствия единства и противоречий в Ганзейском мире, особенно в более поздний период, еще одним важным фактом было то, что один член и покровитель Лиги, Тевтонский орден, временами занимал довольно своеобразную позицию в вопросе английской торговли, особенно в XV в.
Оставляя в стороне конфликты Англии с Ганзой, которые стали очень частыми и серьезными с последней четверти XIV в., а также взаимные карательные меры и препирательства, приостановление привилегий, конфискацию товаров и т. д. (массу информации по этому вопросу содержат два источника – Hanserecesse и Hansisches Urkundenbuch), следует отметить, что именно к концу XIV в. интерес Англии к балтийской торговле значительно возрос. В связи с одним спором мы узнаем, что в 1385 г. с Данцигом торговали 88 английских купцов. Источники упоминают неоднократные случаи поселения в те годы английских купцов в Данциге, причем ни один из них не получил гражданские права. Ганзейские источники также упоминают об английских купцах, в середине XIV в. торговавших с Эльбингом. Торговля с Норвегией имела еще более древние традиции и восходила к XIII в.

