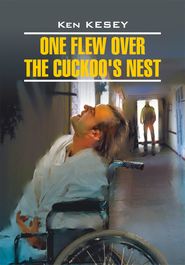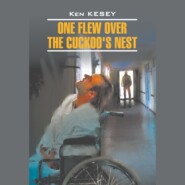По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Над гнездом кукушки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он снова начинает дрожать и незаметно для себя заворачиваться в плечи.
– Нет. Обвинять ей не нужно. Она гений намеков. Вы разве слышали на сегодняшнем собрании, чтобы она хоть в чем-то обвинила меня? А кажется, в чем только меня не обвинили: в ревности и паранойе, в том, что я не мужчина, раз не могу удовлетворить жену, в связях с мужчинами, в том, что я как-то не так держу сигарету, и даже, как мне показалось, будто у меня ничего нет между ног, кроме кустика волос – этаких мягких, пушистых, белокурых! Яйцерезка? О, вы ее недооцениваете!
Хардинг внезапно смолкает, подается вперед и берет Макмёрфи за руку двумя руками. Лицо у него странно перекошено, черты заострились и пошли буро-лиловыми пятнами – не лицо, а битая бутылка вина.
– Этот мир… во власти сильных, друг мой! Таков ритуал нашего бытия, что сильные становятся сильнее, пожирая слабых. Мы должны признать это. Такова правда жизни, вот и все. Мы должны научиться принимать это как закон природы. Кролики принимают свою роль в этом ритуале и признают за волком силу. А для защиты кролик становится хитрым, и пугливым, и изворотливым, и роет норы, чтобы прятаться, когда волк рядом. И этим спасается, и выживает. Он знает свое место. И уж конечно, не бросает волку вызов. Разве мудро это было бы? Ну?
Он выпускает руку Макмёрфи, откидывается, закинув ногу на ногу, и делает еще одну долгую затяжку. Затем улыбается своей треснутой улыбкой, вынимает сигарету и давай опять смеяться:
– И-и-и-и-и-и-и-и-и, – словно гвоздь вытаскивают из доски. – Мистер Макмёрфи… друг мой… я не курица, я кролик. И врач кролик. И Чезвик вот кролик. И Билли Биббит. Все мы здесь кролики, разных лет и степени, прыг-скачущие по нашему диснеевскому миру. Только не поймите превратно: мы здесь не потому, что мы кролики – мы везде были бы кроликами, – мы все здесь потому, что не можем приспособиться к нашей кроличьей жизни. Нам нужен хороший сильный волк или волчиха, как медсестра, чтобы мы знали свое место.
– Мужик, ты в дурь попер. Хочешь мне сказать, что собираешься сидеть и слушать какую-то кошелку с синими волосами, утверждающую, что ты кролик?
– Не утверждающую, нет. Я родился кроликом. Только глянь на меня. Мне просто нужна медсестра, чтобы быть счастливым кроликом.
– Никакой ты, на хрен, не кролик!
– Видишь уши? Непоседливый носик? Хвостик пимпочкой?
– Ты говоришь, как ненор…
– Как ненормальный? Очень проницательно.
– Блин, Хардинг, я не это имел в виду. Не в этом смысле ненормальный. Я в смысле… черт, я удивился, насколько вы все, парни, разумны. Как по мне, так вы ничуть не ненормальней, чем средний засранец на улице…
– Ну-ну, засранец на улице.
– Но не как, знаете, в кино показывают ненормальных. Вы просто замороченные и… вроде…
– Вроде кроликов, так ведь?
– К черту кроликов! Ничего похожего на кроликов, ёлы-палы!
– Мистер Биббит, попрыгайте тут ради мистера Макмёрфи. Мистер Чезвик, покажите ему, какой вы пушистый.
Билли Биббит и Чезвик прямо на моих глазах обратились в согбенных белых кроликов, но слишком оробели, чтобы исполнить просьбу Хардинга.
– Ой, они стесняются, Макмёрфи. Правда, мило? Или, может, ребятам не по себе, потому что не вступились за друга. Возможно, они чувствуют вину за то, что снова позволили ей сделать себя ее допросчиками. Не унывайте, друзья, вам нечего стыдиться. Все как должно быть. Не годится кролику вступаться за собрата. Это было бы глупо. А вы поступили мудро – трусливо, но мудро.
– Послушай, Хардинг, – говорит Чезвик.
– Нет-нет, Чезвик. Не надо сердиться на правду.
– Знаешь чего; было время, когда я говорил о старушке Рэтчед то же самое, что и Макмёрфи.
– Да, но ты говорил это очень тихо, а потом и вовсе взял свои слова назад. Ты тоже кролик, не пытайся отрицать правду. Поэтому я на тебя и не в обиде за те вопросы, что ты мне задавал сегодня на собрании. Ты просто играл свою роль. Если бы на ковер вызвали тебя, или тебя, Билли, или тебя, Фредриксон, я бы нападал на вас не менее жестоко. Мы не должны стыдиться своего поведения; нам, мелким зверушкам, положено так вести себя.
Макмёрфи поворачивается, сидя верхом на стуле, и оглядывает остальных острых.
– А я не уверен, что им нечего стыдиться. Лично я подумал, это чертовски подло, как они переметнулись на ее сторону против тебя. Показалось даже, что я снова в красном китайском лагере…
– Боже правый, Макмёрфи, – говорит Чезвик, – ты вот послушай.
Макмёрфи поворачивается к нему, готовый слушать, но Чезвик сдулся. Чезвик всегда сдувается; он из тех, что поднимут много шуму, словно готовы вести в атаку, покричат, потопают с минуту, сделают шаг-другой – и в кусты. Макмёрфи смотрит на него, впавшего в ступор после такого многообещающего зачина, и говорит ему:
– Как есть, блин, китайский лагерь.
Хардинг воздевает руки, призывая к миру.
– Ой, нет-нет, не надо так. Вы не должны нас осуждать, друг мой. Нет. Между прочим…
Я вижу, как в глазах Хардинга снова разгорается лукавый огонек; думаю, сейчас опять начнет смеяться, но он вынимает изо рта сигарету и указывает ею на Макмёрфи – у него в руке сигарета кажется еще одним пальцем, таким же тонким и белым, только дымящимся.
– …Вы тоже, мистер Макмёрфи, при всей вашей ковбойской браваде и карнавальном кураже вы тоже, под этим заскорузлым панцирем, наверняка такой же мягкий и пушистый, с кроличьей душой, как и мы.
– Ага, еще бы. Типичный американский кролик. И что же во мне такого кроличьего, а, Хардинг? Мои психопатические наклонности? Или склонность драться? А может, ебаться? Наверно, все же ебаться. Мои амуры. Ну да, они, наверно, и делают меня кроликом…
– Подождите; боюсь, вы затронули вопрос, требующий некоторого рассмотрения. Кролики известны этой чертой, не так ли? Даже печально известны. Да. Хм. Но в любом случае вопрос, затронутый вами, лишь указывает, что вы здоровый, полноценный, адекватный кролик, тогда как большинство из нас не может этим похвастаться. Никчемные создания, вот мы кто – чахлые, пришибленные, слабые особи слабого народца. Кролики без амуров; жалкая картина.
– Подожди-ка; ты переиначил мои слова…
– Нет. Вы были правы. Помните, это ведь вы обратили наше внимание на то место, куда нас клюет сестра? Это правда. Среди нас нет никого, кто бы не боялся потерять – если еще не потерял – свою мужскую силу. Мы смешные зверьки, которые не могут быть самцами даже в кроличьем мире, – вот насколько мы слабы и неполноценны. Х-и-и. Нас можно назвать кроликами кроличьего мира!
Хардинг снова подается вперед и начинает смеяться этим своим натянутым, писклявым смехом, оправдывая мои ожидания; руки его порхают, лицо дергается.
– Хардинг! Захлопни варежку!
Это как пощечина. Хардинг умолкает, на лице застывает усмешка, руки виснут в сизом облаке табачного дыма. Он замирает на секунду; затем щурит глаза в лукавые щелки и, вскинув взгляд на Макмёрфи, говорит так тихо, что мне приходится подойти к нему сзади со шваброй, чтобы расслышать.
– Друг… ты… может, волк?
– Никакой я не волк, ёлы-палы, и ты не кролик. Ёксель, никогда еще не слышал такой…
– Рык у тебя самый волчий.
Макмёрфи шумно выдыхает, вытянув губы трубочкой, и поворачивается от Хардинга к остальным острым, обступившим их.
– Вот что; всех касается. Какого хрена с вами творится? Вы не настолько спятили, чтобы считать себя какими-то зверушками.
– Нет, – говорит Чезвик и подходит к Макмёрфи. – Нет, ей-богу. Я никакой не кролик.
– Молодец, Чезвик. И остальные, ну-ка бросьте это. Тоже мне, приучились драпать от пятидесятилетней тетки. Да что она такого может с вами сделать?
– Да, что? – говорит Чезвик и злобно зыркает на всех.
– Высечь она вас не может. Каленым железом прижечь не может. На дыбу вздернуть не может. Теперь у них законы против этого; сейчас не Средние века. Ничего она не сделает такого…
– Ты в-в-видел, что она м-может с нами с-с-сделать! На сегодняшнем собрании.
– Нет. Обвинять ей не нужно. Она гений намеков. Вы разве слышали на сегодняшнем собрании, чтобы она хоть в чем-то обвинила меня? А кажется, в чем только меня не обвинили: в ревности и паранойе, в том, что я не мужчина, раз не могу удовлетворить жену, в связях с мужчинами, в том, что я как-то не так держу сигарету, и даже, как мне показалось, будто у меня ничего нет между ног, кроме кустика волос – этаких мягких, пушистых, белокурых! Яйцерезка? О, вы ее недооцениваете!
Хардинг внезапно смолкает, подается вперед и берет Макмёрфи за руку двумя руками. Лицо у него странно перекошено, черты заострились и пошли буро-лиловыми пятнами – не лицо, а битая бутылка вина.
– Этот мир… во власти сильных, друг мой! Таков ритуал нашего бытия, что сильные становятся сильнее, пожирая слабых. Мы должны признать это. Такова правда жизни, вот и все. Мы должны научиться принимать это как закон природы. Кролики принимают свою роль в этом ритуале и признают за волком силу. А для защиты кролик становится хитрым, и пугливым, и изворотливым, и роет норы, чтобы прятаться, когда волк рядом. И этим спасается, и выживает. Он знает свое место. И уж конечно, не бросает волку вызов. Разве мудро это было бы? Ну?
Он выпускает руку Макмёрфи, откидывается, закинув ногу на ногу, и делает еще одну долгую затяжку. Затем улыбается своей треснутой улыбкой, вынимает сигарету и давай опять смеяться:
– И-и-и-и-и-и-и-и-и, – словно гвоздь вытаскивают из доски. – Мистер Макмёрфи… друг мой… я не курица, я кролик. И врач кролик. И Чезвик вот кролик. И Билли Биббит. Все мы здесь кролики, разных лет и степени, прыг-скачущие по нашему диснеевскому миру. Только не поймите превратно: мы здесь не потому, что мы кролики – мы везде были бы кроликами, – мы все здесь потому, что не можем приспособиться к нашей кроличьей жизни. Нам нужен хороший сильный волк или волчиха, как медсестра, чтобы мы знали свое место.
– Мужик, ты в дурь попер. Хочешь мне сказать, что собираешься сидеть и слушать какую-то кошелку с синими волосами, утверждающую, что ты кролик?
– Не утверждающую, нет. Я родился кроликом. Только глянь на меня. Мне просто нужна медсестра, чтобы быть счастливым кроликом.
– Никакой ты, на хрен, не кролик!
– Видишь уши? Непоседливый носик? Хвостик пимпочкой?
– Ты говоришь, как ненор…
– Как ненормальный? Очень проницательно.
– Блин, Хардинг, я не это имел в виду. Не в этом смысле ненормальный. Я в смысле… черт, я удивился, насколько вы все, парни, разумны. Как по мне, так вы ничуть не ненормальней, чем средний засранец на улице…
– Ну-ну, засранец на улице.
– Но не как, знаете, в кино показывают ненормальных. Вы просто замороченные и… вроде…
– Вроде кроликов, так ведь?
– К черту кроликов! Ничего похожего на кроликов, ёлы-палы!
– Мистер Биббит, попрыгайте тут ради мистера Макмёрфи. Мистер Чезвик, покажите ему, какой вы пушистый.
Билли Биббит и Чезвик прямо на моих глазах обратились в согбенных белых кроликов, но слишком оробели, чтобы исполнить просьбу Хардинга.
– Ой, они стесняются, Макмёрфи. Правда, мило? Или, может, ребятам не по себе, потому что не вступились за друга. Возможно, они чувствуют вину за то, что снова позволили ей сделать себя ее допросчиками. Не унывайте, друзья, вам нечего стыдиться. Все как должно быть. Не годится кролику вступаться за собрата. Это было бы глупо. А вы поступили мудро – трусливо, но мудро.
– Послушай, Хардинг, – говорит Чезвик.
– Нет-нет, Чезвик. Не надо сердиться на правду.
– Знаешь чего; было время, когда я говорил о старушке Рэтчед то же самое, что и Макмёрфи.
– Да, но ты говорил это очень тихо, а потом и вовсе взял свои слова назад. Ты тоже кролик, не пытайся отрицать правду. Поэтому я на тебя и не в обиде за те вопросы, что ты мне задавал сегодня на собрании. Ты просто играл свою роль. Если бы на ковер вызвали тебя, или тебя, Билли, или тебя, Фредриксон, я бы нападал на вас не менее жестоко. Мы не должны стыдиться своего поведения; нам, мелким зверушкам, положено так вести себя.
Макмёрфи поворачивается, сидя верхом на стуле, и оглядывает остальных острых.
– А я не уверен, что им нечего стыдиться. Лично я подумал, это чертовски подло, как они переметнулись на ее сторону против тебя. Показалось даже, что я снова в красном китайском лагере…
– Боже правый, Макмёрфи, – говорит Чезвик, – ты вот послушай.
Макмёрфи поворачивается к нему, готовый слушать, но Чезвик сдулся. Чезвик всегда сдувается; он из тех, что поднимут много шуму, словно готовы вести в атаку, покричат, потопают с минуту, сделают шаг-другой – и в кусты. Макмёрфи смотрит на него, впавшего в ступор после такого многообещающего зачина, и говорит ему:
– Как есть, блин, китайский лагерь.
Хардинг воздевает руки, призывая к миру.
– Ой, нет-нет, не надо так. Вы не должны нас осуждать, друг мой. Нет. Между прочим…
Я вижу, как в глазах Хардинга снова разгорается лукавый огонек; думаю, сейчас опять начнет смеяться, но он вынимает изо рта сигарету и указывает ею на Макмёрфи – у него в руке сигарета кажется еще одним пальцем, таким же тонким и белым, только дымящимся.
– …Вы тоже, мистер Макмёрфи, при всей вашей ковбойской браваде и карнавальном кураже вы тоже, под этим заскорузлым панцирем, наверняка такой же мягкий и пушистый, с кроличьей душой, как и мы.
– Ага, еще бы. Типичный американский кролик. И что же во мне такого кроличьего, а, Хардинг? Мои психопатические наклонности? Или склонность драться? А может, ебаться? Наверно, все же ебаться. Мои амуры. Ну да, они, наверно, и делают меня кроликом…
– Подождите; боюсь, вы затронули вопрос, требующий некоторого рассмотрения. Кролики известны этой чертой, не так ли? Даже печально известны. Да. Хм. Но в любом случае вопрос, затронутый вами, лишь указывает, что вы здоровый, полноценный, адекватный кролик, тогда как большинство из нас не может этим похвастаться. Никчемные создания, вот мы кто – чахлые, пришибленные, слабые особи слабого народца. Кролики без амуров; жалкая картина.
– Подожди-ка; ты переиначил мои слова…
– Нет. Вы были правы. Помните, это ведь вы обратили наше внимание на то место, куда нас клюет сестра? Это правда. Среди нас нет никого, кто бы не боялся потерять – если еще не потерял – свою мужскую силу. Мы смешные зверьки, которые не могут быть самцами даже в кроличьем мире, – вот насколько мы слабы и неполноценны. Х-и-и. Нас можно назвать кроликами кроличьего мира!
Хардинг снова подается вперед и начинает смеяться этим своим натянутым, писклявым смехом, оправдывая мои ожидания; руки его порхают, лицо дергается.
– Хардинг! Захлопни варежку!
Это как пощечина. Хардинг умолкает, на лице застывает усмешка, руки виснут в сизом облаке табачного дыма. Он замирает на секунду; затем щурит глаза в лукавые щелки и, вскинув взгляд на Макмёрфи, говорит так тихо, что мне приходится подойти к нему сзади со шваброй, чтобы расслышать.
– Друг… ты… может, волк?
– Никакой я не волк, ёлы-палы, и ты не кролик. Ёксель, никогда еще не слышал такой…
– Рык у тебя самый волчий.
Макмёрфи шумно выдыхает, вытянув губы трубочкой, и поворачивается от Хардинга к остальным острым, обступившим их.
– Вот что; всех касается. Какого хрена с вами творится? Вы не настолько спятили, чтобы считать себя какими-то зверушками.
– Нет, – говорит Чезвик и подходит к Макмёрфи. – Нет, ей-богу. Я никакой не кролик.
– Молодец, Чезвик. И остальные, ну-ка бросьте это. Тоже мне, приучились драпать от пятидесятилетней тетки. Да что она такого может с вами сделать?
– Да, что? – говорит Чезвик и злобно зыркает на всех.
– Высечь она вас не может. Каленым железом прижечь не может. На дыбу вздернуть не может. Теперь у них законы против этого; сейчас не Средние века. Ничего она не сделает такого…
– Ты в-в-видел, что она м-может с нами с-с-сделать! На сегодняшнем собрании.