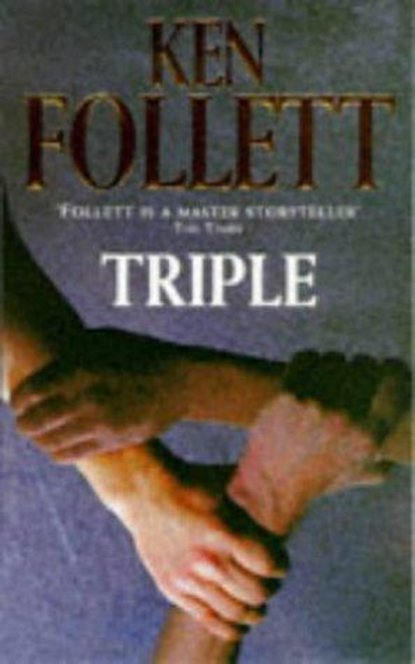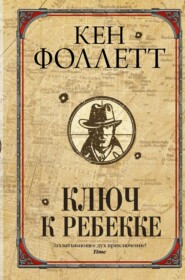По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Трое
Автор
Год написания книги
1979
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После осмотра предприятия Педлер, усадив его в «Мерседес», доставил Ната в обширный дом в стиле шале, разместившийся на склоне холма. Рассевшись перед широким окном, они попивали «Сект», пока фрау Педлер, живая веселая женщина, хлопотала на кухне.
Из окна открывался вид на долину. Далеко внизу медленно текла широкая река, по ее берегу вилась узкая ленточка дороги. Вдоль берега группками стояли серые домики с белыми ставнями, а посадки винограда поднимались по склонам вплоть до дома Педлера и, минуя его, до опушки леса. Если бы мне довелось жить в стране с прохладным климатом, подумал Дикштейн, я бы выбрал такое же прекрасное место.
– Итак, что вы думаете? – спросил Педлер.
– О пейзаже или о заводе?
Улыбнувшись, Педлер пожал плечами.
– И о том, и о другом.
– Пейзаж великолепен. Предприятие меньше, чем я ожидал.
Педлер закурил сигарету. Он был по-настоящему отчаянным курильщиком – и мог считать себя счастливчиком, что дожил до таких лет.
– Меньше?
– Очевидно, я должен объяснить, что меня интересует.
– Будьте любезны.
Дикштейн приступил к изложению своей версии.
– В данный момент армия производит закупки моющих и чистящих средств у разных поставщиков: детергенты у одного, обыкновенное мыло у другого, растворители для машин и агрегатов у третьего и так далее. Мы поставили задачу сократить расходы и, может быть, решим ее, если будем вести все дела в одном районе и с одним производителем.
Педлер невольно вытаращил глаза.
– Это же… – он поперхнулся на полуслове, – …огромный заказ.
– Боюсь, он может оказаться слишком велик для вас, – сказал Дикштейн, думая лишь об одном: только не говори «да»!
– Не обязательно. Единственная причина, по которой мы не стремились расширять объемы, производства, заключалась в отсутствии таких крупных заказов. У нас, без сомнения, есть навык управления, есть отработанная технология, и если к нам обратится крупная фирма, найдутся и средства, чтобы расширяться… по сути, все зависит от объема заказа.
Дикштейн подтянул к себе дипломат, лежавший на соседнем стуле, и открыл его.
– Вот здесь спецификация товаров, – сказал он, протягивая Педлеру список. – Плюс их количество и время поставок. Вам потребуется время, чтобы посоветоваться с вашими директорами и…
– Я сам тут босс, – улыбнулся Педлер. – Мне ни с кем не надо советоваться. Завтра я обдумаю цифры, а в понедельник загляну в банк. Во вторник позвоню вам и назову цену.
Появилась фрау Педлер и объявила:
– Ленч готов.
«Моя дорогая Сузи!
Никогда раньше я не писал любовных писем. Не думаю даже, что когда-либо называл кого-нибудь словом «дорогая». И должен сказать тебе, звучит оно прекрасно.
Я сейчас совершенно один в чужом городе в холодный воскресный день. Город очень красив, тут много парков, и, в сущности, я сижу в одном из них и пишу тебе дешевой шариковой ручкой с ужасной зеленой пастой, единственной, что мне удалось купить. Моя скамейка стоит рядом со странным строением в виде пагоды с округлым куполом и греческими колоннами – она похожа на ярмарочный балаган или на летний домик, который эксцентричные викториаицы предпочитали ставить в своих садиках. Передо мной – ухоженный газон, усаженный тополями, а где-то неподалеку духовой оркестр играет какую-то мелодию Эдварда Элгара. В парке полно гуляющих с детьми; здесь играют в мяч и выгуливают собак.
Не знаю, почему рассказываю тебе все это. На самом деле я хочу сказать, что люблю тебя и хотел бы провести рядом с тобой весь остаток своей жизни. Я понял это на другой день после нашей встречи. Я медлил сказать тебе об этом не потому, что был не уверен в себе, а…
Ну, если хочешь знать правду, я думал, что это может испугать тебя. Я понял, что ты полюбила меня, но я также понимал, что тебе двадцать пять лет, что ты быстро влюбляешься (я совсем другой) и что любовь, которая легко приходит, столь же легко может и уйти. Поэтому я и думал: мягче, мягче, дай ей возможность самой придти к тебе прежде, чем ты попросишь ее сказать «навсегда». Но теперь, когда мы не виделись уже несколько недель, я не способен больше на такую сдержанность. Просто я должен сказать тебе, что со мной делается. Я хочу навсегда быть с тобой и хочу, чтобы ты это знала.
Мне свойственно меняться. Я сильно изменился. Я знаю, что слова эти – банальность, но когда нечто подобное происходит с тобой, они больше не кажутся банальностью, совсем наоборот. Жизнь теперь предстала передо мной совсем другими сторонами – о некоторых ты уже знаешь, о других же я когда-нибудь расскажу тебе. Даже свое сегодняшнее положение я воспринимаю совсем по-другому: я один в чужом городе и мне нечего делать до понедельника. Не то, что я обращаю на это особое внимание. Но раньше мне даже не приходило в голову, нравится мне или не нравится такая ситуация. Раньше передо мной не было выбора, что делать. Теперь же меня не покидает одно желание, и ты тот человек, с которым я хотел бы разделить его. Мне придется избавляться от своих мыслей, потому что они не дают мне покоя и заставляют нервничать.
Я снимусь отсюда через пару дней и не знаю, куда мне придется двинуться дальше; не знаю – и это хуже всего – даже когда я снова увижу тебя. Но когда это случится, поверь, я не позволю тебе скрыться с глаз моих на ближайшие десять или пятнадцать лет.
Мне очень трудно выразить то, что я чувствую. Я хотел бы рассказать тебе, что делается со мной, но я не могу передать это словами. Я хотел бы, чтобы ты знала: много раз в течение дня я воссоздаю перед собой твой облик – стройную девочку с копной черных волос, и меня не покидает надежда, для которой нет никаких оснований, что когда-нибудь она будет моей и со мной, и я все время пытаюсь себе представить, что бы ты могла сказать и об этом пейзаже, и о газетной статье, об этом маленьком человечке с большой собакой, о проходящей мимо красотке; я тоскую по тебе, когда ложусь в свою одинокую постель, меня терзает боль, когда я не могу притронуться к тебе.
Я очень люблю тебя. Н.»
Секретарша Франца Педлера позвонила Нату Дикштейну в отель во вторник утром и назначила время ленча.
Они встретились в скромном ресторанчике на Вильгельмштрассе и заказали пиво вместо вина: им предстояла деловая встреча. Дикштейн сдерживал нетерпение – уговаривать должен не он, а Педлер.
– Ну-с, – сказал Педлер, – думаю, мы сможем удовлетворить вас.
Дикштейну захотелось заорать «ура!», но он продолжал сидеть с бесстрастным лицом.
Педлер продолжал:
– Цены, которые я вам сейчас представлю, носят условный характер. Нам необходим контракт на пять лет. Мы можем гарантировать неизменность цен на первые двенадцать месяцев; затем они могут меняться в зависимости от индекса мировых цен на некоторые исходные материалы. Тут же и штрафные санкции – до десяти процентов стоимости годовых поставок.
Дикштейну захотелось сказать «договорились!» и завершить сделку рукопожатием, но он напомнил себе, что должен продолжать играть роль.
– Десять процентов – многовато.
– Отнюдь, – запротестовал Педлер. – Если вы откажетесь от договора, они даже не компенсируют наших затрат. Но пени должны быть достаточно велики, чтобы отвратить вас от нарушения договора, разве что в силу каких-нибудь исключительных обстоятельств.
– Понимаю. Но мы могли бы сойтись и на меньшем проценте.
Педлер пожал плечами.
– Можно и поторговаться. Вот цены.
Изучив список, Дикштейн сказал:
– Они близки к тому, что мы и ожидали.
Педлер просиял.
– В таком случае, – воскликнул он, – давайте в самом деле выпьем! Официант!
Когда появились напитки. Педлер поднял свой стакан.
– За много лет совместного сотрудничества!
– Я тоже выпью за это, – сказал Дикштейн.