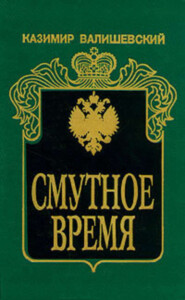По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Иван Грозный
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это относится к черным землям, населенным свободными крестьянами. На белых землях ссуды, выдававшиеся владельцами крестьянам на расходы по первому обзаведению хозяйством, помощь во время голода или падежа скота, делали условия для земледельцев более сносными, но это лишало их свободы. На общинных землях при поселении крестьяне обыкновенно освобождались от уплаты налогов на срок от 4 до 8 лет, но ни на что другое они рассчитывать больше не могли. Монастырские владения слыли раем, и я уже указал почему. Однако если монахи, сами не очень обремененные, могли быть также и менее требовательны, слово страда (от страдать), применяемое обыкновенно к работе на этих собственников, показывает, что это за рай был.
Я уже указывал на причину, затруднявшую развитие промышленности. Знаменитый «Домострой», составленный попом Сильвестром в царствование Ивана Грозного, дает любопытное освещение этого вопроса. Промышленная деятельность по «Домострою» носит характер патриархальный. Под крышей боярина того времени мы видим целую группу мастерских, снабжающих дом всеми необходимыми предметами внутреннего потребления. Для развития самостоятельного мастерства не было места.
Плотничье и столярное ремесло, судостроение, выделка мелкой домашней утвари и разных других предметов из дерева – занятие так сильно развившееся в наше время в особой, так называемой кустарной, промышленности, было однако известно и распространено в стране с древних времен. В Козмодемьяновске, близ Нижнего Новгорода, возникло известное производство сундуков. Холмогоры славились изделиями из красной и тюленей кожи. Вяземские сани и калужские деревянные ложки пользовались большой известностью. Но все это были предметы малоценные. Холмогорские сундуки служили для перевозки товаров, направлявшихся в Москву, и затем продавались по дешевой цене. Сотня калужских ложек стоила 20 алтын, а вяземские сани продавались за полтину.
Торговля, сравнительно более развитая, не имела для себя достаточно пищи. Предметы вывоза ограничивались почти исключительно сырьем и едва обработанными материалами. Первое место занимали меха: их продавали в Европу и Азию почти на 500 000 рублей в год. Лучшие соболи шли из Обдорской земли (теперешняя Тобольская губ.), меха белых медведей – с берегов Печоры, бобры – с Кольского полуострова. Красивый мех соболя стоил до 30 золотых флоринов. Опушка боярской шапки из чернобурой лисицы стоила 15. Но горностаевые шкурки были тогда дешевы: по 3–4 деньги за штуку. Воск занимал второе место среди предметов внешней торговли. Его вывозили до 50 000 пудов в год. Затем шло сало из земель Смоленской, Ярославской, Угличской, Новгородской, Вологодской и Тверской. Производилось его громадное количество от 30 до 40 тысяч пудов в год. Внутреннее потребление этого продукта было довольно незначительно, потому что богатые пользовались для освещения восковыми свечами, а простой народ – лучиной из смолистого дерева. Мед, в изобилии доставлявшийся землями Рязанской и Муромской, позже Казанской, служил главным образом для приготовления любимого национального напитка. Но все-таки часть его шла и за границу. Псков и Новгород вывозили его до 10 000 пудов ежегодно. Лосиные кожи, которые хвалит Флетчер, покупались также иностранцами. Самые крупные лоси водились в лесах близ Ростова, Вычегды, Новгорода, Мурома и Перми. Быки, слишком мелкие, были малоценным товаром. Окрестности Архангельска доставляли для внешнего потребления тюлений жир. Рыбные промыслы, устроенные в Ярославле, на Белоозере, в Нижнем Новгороде, в Астрахани после ее завоевания, – доставляли в изобилии рыбу и икру. Уже тогда эти продукты охотно закупались голландскими, французскими и английскими купцами и шли даже в Италию и Испанию. Матвей Меховский в своем трактате о Сарматах, появившимся в 1521 году, говорит о ловле китов на Белом море. Однако было бы ошибочно думать, что эта отрасль промышленности достигла тогда значительных размеров. Даже гораздо позже попытки развить ее не увенчались успехом. Дело, вероятно, ограничилось, как предполагает Замысловский, использованием нескольких китов, выброшенных морем. Некоторые виды птиц служили предметом постоянного спроса на заграничные рынки. Псковский лен и конопля из Смоленска, Дорогобужа и Вязьмы находили сбыт за границей, равно как и соль, добывавшаяся в Старой Руссе, а также деготь из Смоленска и Двинска.
Персия покупала моржовые клыки для промышленных целей, а также для изготовления известного тогда противоядия.
Добывавшаяся в большом количестве на берегах Двины и в Карелии слюда заменяла стекло в стране и вывозилась наравне с другими минеральными продуктами: селитрой, приготовлявшейся в Угличе, Ярославле и Устюге, серой из самарских озер, железом из рудников Карелии и окрестностей Каргополя и Устгожны. Приготовлявшиеся большею частью для внутреннего потребления некоторые предметы находили и внешний сбыт, у татар. Они покупали седла, уздечки, полотна, сукна, одежу и взамен присылали азиатских лошадей. Европейские купцы привозили серебро в слитках, золото для шитья, медь, сукна, зеркала, кружева, ножи, иголки, кошельки, вина и фрукты. Азиатские же купцы продавали шелковые материи, парчу, ковры, жемчуга и драгоценные камни. Как те, так и другие должны были сначала везти свои товары в Москву, где государь выбирал, что ему нужно, а остальное уже разрешал продавать кому угодно. Дочь Петра Великого еще пользовалась этой привилегией по отношению к торговцам модными французскими товарами.
Купцы съезжались при слиянии Мологи и Волги. Там некогда возник маленький город – Холопий городок, от которого осталась только церковь. По преданию, он был основан новгородскими невольниками, убежавшими сюда от гнева своих господ, тяжело ими оскорбленных во время отсутствия, показавшегося слишком долгим для добродетели их жен, остававшихся дома. В этом городке собиралась знаменитейшая в то время на Руси ярмарка. Она продолжалась 4 месяца. В обширном лимане Мологи скоплялось столько судов, что можно было по ним перейти с одного берега на другой. Немецкие, польские, литовские, греческие, итальянские, персидские купцы толпились на берегу, размещая свои товары на обширном лугу, окруженном временными постоялыми дворами и кабаками. Их насчитывали здесь иногда до семидесяти. Обмен был настолько значителен, что государю поступало ежегодно до 180 пудов серебра. Однако обмен совершался почти исключительно натурой, без употребления денег. Деньги – вообще в то время очень редкая вещь – скоплялись в руках не менее редких капиталистов и главным образом в руках князя.
Только ярмарка в Лампожне, о которой я уже упоминал, могла равняться с рынком Холопьего городка по оживленности и обороту по торговле мехами с самоедами. За железный топор эти дикари давали столько собольих шкурок, сколько их можно было связанными вместе протянуть через отверстие, куда вставляется ручка топора.
Литовские купцы собирались еще на берегу Днепра, близь монастыря св. Троицы, в Смоленской земле. Торговля с иностранцами оказывалась в общем итоге убыточной для русских, так как местные продукты шли по очень низкой цене, а иностранные напротив покупались по очень высокой. Аршин бархата, атласу стоил рубль. Кусок тонкого английского сукна – 30 рублей, бочка французского вина – 4 рубля. Золотая монета служила также предметом ввоза и облагалась пошлинами, как и все другие товары. Своя чеканка не удовлетворяла потребностям страны. Ловкие и предприимчивые русские купцы того времени пользовались дурной репутацией. Иностранцы отмечают их лукавство и недобросовестность.
Исключение составляют псковские и новгородские купцы, но и они уже не пользуются былой славой честных дельцов. Местная поговорка «показывать товар лицом» получила очень широкое применение, точно так же как и привычка запрашивать за вещи чуть ли не в десять раз больше против их действительной стоимости, если покупатель был богат или наивен. Оптовые торговцы часто брали с собой опытных людей, но последние обыкновенно старались появиться с обеих сторон. Иностранцы замечали, что чем больше божится купец, тем больше шансов быть обворованным им. Обмануть качеством и мерой товара, продать подделку, подменить при покупке один предмет другим было обычным делом в русской торговой практике того времени.
Иностранные коммерсанты пользовались большими успехами. С XV века некоторые английские, фламандские, голландские торговые дома, основавшиеся в России для ввоза и вывоза, приобрели некоторые привилегии и пользовались ими до тех пор, когда возникла настоящая монополия английских купцов. Это объясняется до некоторой степени вкоренившимися в русской торговле пороками, хотя нельзя сказать, чтобы и иностранцы были вполне свободны от них. Герберштейн сознается, что нередко продавались ими те предметы, которые стоили 1–2 червонца, за 12.
Русские были невежественны и подвергалась так же часто обману, как и сами являлись обманщиками; эксплуатируемые, но, защищаемые государством, они смотрели на торговлю как на войну, где всякие средства законны и даже необходимы. Иностранцы, считавшие их поступки нечестными, сами им подражали. Налоги, взваленные на промышленность жадностью правительства, и разные препятствия, создаваемые его неуменьем, все увеличивались. Государство было поделено на небольшие торговые области, простиравшиеся на 10–20 верст от какого-нибудь центра-города или деревни. В каждой из таких областей торговля должна была происходить в центральном пункте, чтобы легче было собирать пошлины. Бесчисленные высокие пошлины увеличивались еще системой внутренних преград, дававшей простор злоупотреблениям и вымогательствам. Прежде чем достигнуть рынка, товар должен был пройти ряд фискальных преград: дорожные заставы, таможни при въезде в каждый город и при переправе через реки. Кроме того, если город стоял на берегу реки, нужно было платить пошлины при нагрузке и разгрузке товаров. Если на городской площади был истинный двор, купец должен был останавливаться там и платить за въезд и за выезд. Платили при помещении товаров в склады, и за каждый проданный оттуда предмет. Если продавалась лошадь, то уплачивали пошлину за тавро и за запись, если пуд соли – пошлину за вес.
Представьте, что крестьянин прибыл на рынок с произведениями своего убогого хозяйства. Чтобы выручить 1 рубль, ему нужно продать лошадь или две коровы, или 20 штук гусей, или 10 штук овец, или несколько десятков четвертей ржи, или четверо саней. Он уже по дороге истратил от 8 до 10 денег, что составляет больше его дневного заработка. Если же он продает лошадь, ему придется еще истратить 15 денег. Впрочем, система эта не представляла особенности русского государства. Она была общим явлением той эпохи, когда во Франции еще сохранились следы феодальной фискальной системы, не менее требовательной и стеснительной, когда древний telonium обратившийся в tonlieu и древний vinagrum ставил vientrage, обирал купцов при проезде через каждую землю. В 1567 году насчитывали от 100 до 150 таможенных застав по течению одной только Луары. С ящика каких-нибудь галантерейных товаров, отправлявшихся из Парижа в Руан, с уплаченным ярмарочным сбором, взимали пошлины в Севре, в Нейли, в Сен-Дени, в Шату, в Пеке, в Мезоне, в Конфлане, в Пуаси, в Триеле, в Мёлане, в Манто, в Рош-Гюйоне, в Ворроне, в Андели, в Пон-де-Ларин, на Руанском мосту и, если товар предназначался в Англии, то взимали в том же Руане еще так называемые «Droits de vieomt(», «Droits de r(ve» и «haut passage». К этому нужно еще прибавить расходы за разрешение нагружать, фрахт, плату лоцману.
Однако во Франции уже Людовик XI старался уменьшить число этих поборов, бывших во время анархии Столетней войны. Сама-то система пошлин во Франции была в некотором смысле плодом анархии. В России же она явилась следствием развивавшегося здесь особого строя и осложнялась с увеличением нужд государства. Кроме того, торговля была обременена здесь дополнительными правилами, вытекавшими из первобытных экономических взглядов. Какой-нибудь литовский купец, обменяв в Москве сукно на воск и несколько серебряных безделушек в придачу к нему, мог обнаружить свой товар конфискованным, так как торговля драгоценностями запрещалась.
Кроме того, торговля страдала еще от общего несчастия всех городских поселений того времени. Городские строения и мостовая, если она где встречалась, – все было из дерева и, по меньшей мере раз в 10 лет подвергалось полному опустошению от пожара. После пожара в Новгороде, уничтожившего в 1541 году весь славянский конец, 908 домов, в 1554 г. жертвой его сделались 1500 домов. Одна из летописей этого города, вторая, представляет собой простой перечень этих периодических несчастий. Никаких мер против этого бедствия не предпринималось. Только в 1560 году догадались поместить недалеко от печей кадки, наполненные водой, и большие крючья, какие можно заметить и до сих пор в русских деревнях у изб, находящихся в постоянной опасности от огня. В 1570 г. к этим мерам прибавилось запрещение летом топить бани и разрешалось печь хлеб не иначе, как в печах, помещающихся вне дома. Прибавьте к этому плохое состояние дорог в стране, которая и теперь за неимением подходящего материала вынуждена обходиться без шоссе. Из Порта Святого Николая на Белом море, куда впервые пристали англичане, и до Вологды, где они основали первую свою контору, было 14 суток езды водным путем, а сухим 8 суток в зимнее время. Летом же к сухопутному сообщению долгое время не прибегали. От Вологды до Ярослава считали два дня пути и 30 от Ярослава до Астрахани по воде. Из Новгорода в Нарву важный по внешней торговле путь представлял собой проселочные дороги, проходившие через леса и болота. Гостиниц не было. Деревни попадались редко. Между Новгородом и Москвой тянулось пустынное пространство и из Москвы в Вильну летом можно было добраться с большим трудом. Единственной дорогой, более или менее проходимой во все времена года и сравнительно удобной, была дорога, проходившая по довольно населенным местам между Псковом и Ригой на западной границе. Поэтому большие транспорты совершались летом по водным путям, а зимой по санным. В то время не редкостью было встретить 700 или 800 саней, наполненных зерном или рыбой. Отправлялись тогда в дорогу обыкновенно большими партиями, боясь вооруженных нападений, что нередко случалось.
Опасность встречалась везде: татары на востоке делали постоянные набеги, убивали и грабили путников, казаки на юге, а бродяги везде. На Волге шайки разбойников были настолько многочисленны, что из года в год приходилось высылать против них военные отряды для укрощения их дерзости.
Иностранные путешественники отметили одно явление, ярко выделяющееся из ряда того, о чем я только что рассказывал, – это превосходная организация почты. Из Новгорода в Москву, когда была хорошая дорога, т. е., зимой, 542 версты делали в трое суток, уплачивая по 6 коп. за расстояние в 20 верст. На станциях можно было всегда найти сколько угодно лошадей. В дороге загнанную лошадь быстро заменяли другой. Ее бросали, а брали новую в первой попавшейся деревне или у первого встречного. Царская служба! Достаточно было иметь подорожную, выданную надлежащей властью, чтобы пользоваться подобными услугами. Летом, правда, картина изменялась. Лошади были или на пастбище или заняты полевыми работами. Часы проходили, пока можно было добиться нужной запряжки. Но тогда пользовались преимущественно водными путями, где были лодки и гребцы на той же службе.
Это было наследием татарского завоевания, поразительные успехи которого обусловливались чрезвычайной быстротой и совершенством средств передвижения. Не нужно забывать, что во Франции организация почты относится только к 1464 г., когда они были учреждены эдиктом Людовика XI, и то пока еще только с исключительной политической целью – для королевских курьеров. Россия всегда была страной поразительных неожиданностей.
Но это единственное преимущество не искупало других недостатков, парализовавших в XVI веке развитие экономической жизни. В 1553 г. в Пскове на кладбище было похоронено 25000 трупов, не считая тех, которые в большом количестве сгнили в полях за городом. Народ гиб здесь от чумы – такого же периодического бича, как и пожары. В 1565 г. весной чума была в Луках и Торопце, а осенью в Смоленске и Полоцке. На следующий год она опустошает Новгород, Старую Руссу, еще раз Псков, Можайск и даже Москву. Перед чумой или одновременно с ней, как было в 1570 году, бывал голод. И средства мнимой борьбы с этими несчастьями были так же жестоки, как и они сами. В 1551 г. из Новгорода выгоняли псковских купцов, которых считали зараженными, и тех из них, кто сопротивлялся, сжигали. Сжигали также и священников, решавшихся посещать больных.
В действительности голод был здесь нормальным явлением. Англичанин Джекинс, ловкий коммерсант и вместе с тем проницательный наблюдатель, говорит о двадцати четырех человеках, умерших на его глазах в небольшой промежуток времени от недостатка пищи. Питались они хлебом из высушенной и смолотой мякины. Такой хлеб составлял в зимнее время пищу огромного большинства населения, привыкшего летом есть траву, коренья, древесную кору. Иностранец отмечает при этом бесчеловечность людей в этом крае. Они оставались равнодушными при виде себе подобных, падавших и умиравших на улице от истощения. Эта черта замечается везде, где нищета, сделавшись обычным явлением, притупляет чувство и ожесточает сердца.
В XVI веке богатство или даже простое довольство в этой стране явление исключительное. Наряду с монастырями только Строгановы обладали значительным состоянием. Флетчер определяет его в 300 000 рублей деньгами, не считая огромных земельных владений. Обработанные поля простирались от Вычегды до границ Сибири. В промышленных предприятиях насчитывалось до 10 000 рабочих по найму и 5000 крепостных. Строгановы платили в государственную казну 23000 рублей налогов. Но правительство чуть не разоряет их, требуя все больше. Эта именно система и разоряла многих и в результате таким образом сделала то, из чего Строгановы составляли исключение.
Правительство и церковь, двуликий Ваал. Они пожирают все, сосут национальное богатство, истощая источники дохода: правительство своими чрезмерными поборами, церковь высокими ростовщическими процентами по ссудам. Все в долгу у монастырей и более бедные уплачивают проценты своим трудом, который таким образом является потерянным для общей экономики и для накопления национального богатства. Формула, по которой муж и жена, а иногда и вся семья с детьми обязываются «за рост служити в двое по вся дни», делается общеупотребительной в долговых обязательствах, число которых все возрастало. Выше уже отмеченная редкость монеты служит показателем общей бедности.
По свидетельству Гуаньино, беличьи шкурки служили эквивалентом обмена до конца века, да и Петр Великий еще уплачивал жалованье своим чиновникам таким же способом. Однако в XVI веке чеканка монеты оставалась еще свободной и государство следило только за весом и пробой. Некоторые чеканщики получили даже право класть свое имя на монетах. Очень распространенными также были серебряные слитки и примитивные новгородские монеты, снимки которых дает нам Шадруа в своем труде «Apereu sur monnaies russes», 1836. Они были ни чем иным, как слитками. Привычка смотреть на золото и серебро как на товар надолго укрепилось в умах. Но благородных металлов было недостаточно. Хотя можно сказать, в противоположность утверждению Павла Иовуса, рудники в России были. Уже Иван III в 1482 г. просил венгерского короля Матвея Коровина прислать ему несколько инженеров для эксплуатации рудников. В 1391 г. серебряные россыпи были открыты на берегах Цыльми, притока Печоры. Однако добыча серебра оставалась незначительной и Россия в этом отношении чувствовала себя в зависимости от иностранцев. Что касается золота, то в обращении были только иностранные монеты – венгерские, голландские, польские, флорентийские червонцы, английские shitts-nobles и roses-nobles. Из серебряных – обращались в большом количестве голландские флорины, немецкие талеры, называемые здесь обыкновенно ефимками, и английские шиллинги. Количество золотой монеты, находившейся в обращении, было так ничтожно, что всякое событие, повышавшее на нее спрос, как, например, свадьбы или крестины в царской семье, отправка послов заграницу, – увеличивало цену ее вдвое. По существовавшему обычаю государь по случаю свадьбы и крестин получал в подарок от бояр и сословных представителей червонцы. Послы нуждались в золоте даже для представительства в Польше.
Государь всегда имел много денег в своих подвалах. Он был очень богатым владыкой весьма бедной страны и поражал всех, даже запад, своим богатством, но размеры и способ приобретения его нельзя точно определить. Поэтому я ограничусь только краткими указаниями на этот счет.
VII. Финансы
Мы не имеем никаких точных данных относительно бюджета Московского государства до конца XVI века. При сыне Ивана IV, в конце века, Флетчер определяет доход государства в 1 400 000 рублей – 600 000 прямых налогов и 800 000 косвенных. Судя по документам, относящимся к царствование Алексея, эти цифры кажутся близкими к действительности и указывают, что приход при Иване Грозном в среднем равнялся 1 200 000 руб. В то время в Англии прямых налогов не существовало. Налоги же на предметы потребления приносили 140 000 крон, и весь доход Генриха VII не превосходил миллиона крон. Рубль тогда считался равным 16 шиллингам и 8 пенсам. Таким образом Иван IV взимал со своего народа больше того, что взимал со своего Генрих VIII, в 4 раза.
На самом же деле Иван получал гораздо больше. Важным источником дохода московского государя была земля, раздававшаяся «служилым людям». Ею оплачивались самые существенные потребности государства – армия и администрация. Таким образом, государь этот копил денежные средства. Хотя военные припасы и жалованье некоторым отрядам, уже тогда составлявшим ядро регулярной армии, требовали значительных расходов. По некоторым сведениям, на это уходило три четверти дохода. Но оставшаяся четверть все-таки могла быть отложенной. В самом деле, для содержания своего двора великий князь, как и все другие европейские государи, мог пользоваться доходами со своей личной вотчины. Ему принадлежали 36 городов с селами и деревнями, прилегавшими к ним. Отсюда доставляли ему, кроме денег, хлеб, скот, рыбу, мед, сено. Все это не могло быть потреблено двором, как бы велик он ни был, и служило предметом довольно значительной торговли. Иван IV из этого источника побочных доходов получал 60 000 руб., а его преемник, более экономный, до 230 000 руб.
Указанный порядок в общих чертах сохранился до наших дней. Он составлял неотъемную часть строя, выдержавшего вековое испытание. Стране, достаточно покорной для того, чтобы приспособиться к нему, он доставил если и не благосостояние, то по крайней мере величие и материальное могущество, громадную силу концентрации и роста. Остается выяснить причину этой покорности. Это нам, быть может, удастся, если мы проникнем в духовную жизнь народа, успевшего совершить столько великого с такими средствами.
Глава третья
Умственная жизнь
I. Причины слабости
Монголов, наводнивших Русь в XIII веке, обыкновенно обвиняют в преступлении против цивилизации. Они будто бы явились причиной разрыва сношений этого государства с Западом и произвели быструю остановку в культурном его развитии. Я также долго разделял общее заблуждение и без смущения сознаюсь: все говорит в пользу этого взгляда, а история нашествия так темна! Свидетельство противоположного характера меня сначала поразило. Но тем не менее оно достаточно убедительно, так как исходит от одного из высших представителей национальной церкви. А ведь известно, что до XVIII века умственная жизнь страны концентрировалась в этом очаге просвещения.
«Судя по состоянию и успехам развития просвещения в течение двух с половиной веков, предшествовавших татарскому завоеванию», пишет архиепископ Макарий в своей «Истории Русской церкви»,[11 - V т., 258.] «мы не думаем, чтобы эти успехи были более быстрыми и в следующие два века, если бы даже монголы и не посетили нас… Эти азиаты нисколько не мешали духовенству, особенно в монастырях, заниматься наукой. Но русские сами в то время, кажется, не имели никакого влечения к высшим духовным потребностям. Следуя примеру своих предков, они ограничивались уменьем свободно читать и понимать священное писание»…
Новейшие исследования разрушили иллюзию, что с татарским нашествием нахлынула на европейскую культуру волна варварства. Соратники Батыя и его полководца Суботая вовсе не были такими страшными варварами, как их представляют. Это превосходно показал Каен в своей книге, являющейся в некотором роде настоящим открытием.[12 - Introduction а l'histoire de l'Asie, 1896, стр. 343 и след.] Татары были перворазрядными полководцами и чудесными организаторами, достойными представителями той цивилизации, которая через какое-нибудь столетие в г. Самарканде привела в восхищение послов Генриха Кастильского (1405) и распространила по всей Европе употребительные астрономические таблицы, составленные Улугбеком.
Разрушителями татары были только в случаях военной необходимости и притеснителями являлись только там, где дело шло об их фискальных интересах. По своей численности они не могли наводнить страну. Легенда о нахлынувшем потоке – не что иное, как мелодраматическая выдумка: Суботай везде побеждал с небольшим, но хорошо вооруженным, очень подвижным, под превосходной командой, войском.
Вероятнее всего, что они повсюду находили развалины, разлагающееся государство и страну, уже отделившуюся от Европы и жившую в политическом и умственном отношении почти в полной изолированности. Ярослав (1019–1054) выдал замуж свою сестру за польского короля Казимира, одну из своих дочерей за короля венгерского, другую за норвежского и третью за Генриха I французского, – браки такого рода не были продолжены в традиции великого киевского княжения среди его наследников, споривших из-за уделов. И уже в 1169 году Киев был разрушен другими варварами, которые пришли не из Азии. Удельные князья старались овладеть огнем и мечом древней столицей Киевом. Расчлененная и опустошенная своими же детьми, Русь была еще в духовном общении с Византией, была привязана к трупу; она была связана с греческой наукой, но осуждение античной культуры, закрытие древних школ, введение восточных идей лишали ее свободы исследования, существенного условия прогресса. Современники Фотия († 891) приписывали знания патриарха колдовству одного пажа еврея, точно так же как науку архиепископа Феодора Лев Грамматик смешивал с вызыванием теней умерших. Историография ограничивалась собиранием легенд. Преподавание философии было запрещено. Вся умственная жизнь сводилась к религиозной полемике, находившейся в фазе упадка. С XII века восточные монастыри не в силах уже использовать научные материалы, которыми они располагают.
Умственное одиночество Православной Руси было прямым следствием ее родства с этой византийской Alma mater. Из двух сот сорока русских писателей, появившихся до конца XVII века, не считая юго-западных католиков, сто девяносто были монахи, двадцать из числа белого духовенства и тридцать других были авторами трудов, посвященных главным образом религиозным вопросам. Литература и наука были таким образом почти исключительно церковными. Уже в XIII веке церковь представляет закрытый, непроницаемый мир. Православие запрещало всякое общение с иноверцами. Обычай требовал от русских государей мыть руки после аудиенции, данной иностранным послам, что так оскорбило папского легата Поссевина при дворе Грозного. Присоединение к флорентийской унии митрополита Исидора, ставленника Византии, и взятие турками Константинополя еще более увеличили это духовное одиночество Руси. Теперь сам Восток вызывал подозрения, а торжество ислама казалось заслуженным наказанием. В эту эпоху возникает и распространяется предание о пребывании на Руси ап. Андрея, что свидетельствовало в пользу древности и независимости местного православия. Возникла идея национальной веры, соответствующей самобытным чертам славянского духа.
Однако национальная церковь не только не сияла новым блеском, но напротив, все больше и больше погружалась во мрак. К концу XV века не осталось и следа школ, существование которых при древних монастырях подтверждается многими источниками.
В начале следующего века архиепископ Новгородский, святой Геннадий, с грустью отмечает, что лица, рукоположенные им во священники, не умеют ни читать, ни писать. Устное поучение также отсутствовало, кафедры безмолвствовали и, по свидетельству иностранных путешественников, с трудом можно было найти одного между десятью жителями, кто бы знал наизусть «отче наш». Веком позже, в 1620 г., один ученый швед Ботвид серьезно обсуждал вопрос о том, христиане ли русские.
Монастыри продолжают собирать книги. Некоторые имели даже библиотекарей. Но чтение стало специальным занятием маленькой группы избранников. Оно само уже становится наукой и мало-помалу вся ученость заключалась в нем. Читать как можно больше и даже заучивать наизусть прочитанное – разве это не все, что только можно сделать? Ученый – это книжник, человек, знающий много книг. Но каких книг? В монастырских библиотеках почетное место занимали апокрифические сочинения, такие, как «Завещание Моисея», «Видение Исаака». И эти сочинения пользуются уважением наравне с каноническими. Максим Грек, призванный с Востока в начале XVI века для исправления церковных книг, первый восстал против убеждения, что солнце не заходило в продолжение целой недели после воскресения Христа, и против поверья, что на берегу Иордана ехидна сторожит завещание Адама. Мы имеем каталог библиотеки Троице-Сергиевой лавры в XVII веке. Древняя литература состоит из 411 рукописей. Это почти столько же, сколько было в Glastonbury в XIII веке. Но какая разница в составе! В Glastonbury на первом месте стоят классики, историки и поэты. В Троицкой библиотеке мы насчитываем 101 библию, 46 книг богослужебных, 58 сборников поучений Отцов Церкви, 17 книг по церковному праву и только один философский труд. Остальная же, большая, часть состоит из аскетических произведений. До семнадцатого века древние греческие и латинские писатели оставались неизвестными для русских читателей. Из числа светских произведений любимыми для чтения были хроники. И какие еще хроники! Малалы, с цитатами из стихов Орфея, и еще более распространенная хроника Георгия Амартолы с подробным описанием одежды некоего иудейского священника, шедшего навстречу Александру Великому. В области географии и космографии авторитетами были Георгий Писид и Козьма Индикоплов. Его заключения о размерах земли, выведенные из формы Моисеевой скинии, не встречали никакого недоверия. Поучения, пересыпанные цитатами из апокрифических произведений, идеи Птоломея и Аристотеля, бредни манихейцев и гностиков – все у него смешивается и распространяются самые нелепые понятия. В философии русские держались Иоанна Дамаскина и его теории науки, сведенной к одной любви к Богу. Но до XVIII века с произведениями умозрительными Василия Великого, Дионисия Ареопагита самое видное место занимает «Пчела», представляющая собой несвязную компиляцию из текстов священного писания, извлечений из Отцов церкви, отдельных мыслей, заимствованных у Аристотеля, Сократа, Эпикура, Диодора, Катона.
Под влиянием таким образом приобретенных познаний предсказание затмений луны считается колдовством. Книги математические – под этим названием подразумевались арифметика, астрономия, география, музыка, – были запрещены, как неблагочестивые. Горизонт книжника был слишком узок. К нему не проникал свет европейской науки. Он топчется на одном месте, вдали от движения, уносящего вперед Запад.
Правда, в XVI веке луч солнца и дыхание жизни проникают в эту темницу вместе с албанским монахом, учившимся в Греции и Италии, бывшим уже в некотором роде европейцем. Хотя он и ограничил свою литературную и научную деятельность вопросами веры и морали, но он все же принес на подошвах своих башмаков немного пыли из Милана, Флоренции, Венеции, Феррары и особенно из Падуи. Происходившая тогда там борьба между сторонниками Платона и последователями Аристотеля, течение, ведшее образованный круг людей к подражанию языческим нравам и к нападкам на средневековую теологию, не могла не затронуть и Максима Грека. Он был знаком в Венеции со знаменитым типографом Альдом Мануцием, а во Флоренции прикасался к еще горячему пеплу от костра Савонаролы. Он имел ясное представление о важном научном значении Парижа. Но все это не мешает ему быть лишенным того критического смысла, который является главным двигателем интеллектуальной жизни Запада. Он был проникнут абсолютным недоверием к светской науке и осуждает появившийся в то время русский перевод «Луцидария», знаменитого произведения XII века, приписываемого св. Ансельму Кентерберийскому или Гонорию Отенскому. В этом произведении трактовались сравнительно разумно некоторые вопросы из области космографии и физики. Он не хочет допустить эту книгу в библиотеку, откуда изгнаны греческие и латинские классики. Образовалась легенда вокруг этих классиков. Они будто бы вместе с большим количеством других светских произведений и несколькими еврейскими рукописями хранились с XV века в самом Московском Кремле. На существование этой библиотеки русскому обществу указали исследования двух иностранных ученых Клоссиуса (1834) и Тремера (1891). Вопрос об этой библиотеке еще недавно (1894) вызывал в печати споры. Были даже произведены раскопки на месте старого дворца. Они дали отрицательные результаты. Ниенштедт, ливонский летописец, был первым автором рассказа, где есть упоминание об этой библиотеке. Затем профессор Дерптского университета Добелов составил в 1820 г. каталог этой библиотеки. Каталог бесследно исчез. Были ли они мистификаторами, или же введенными в обман, ясно, что легенда не имеет реального основания. Впрочем, еще гораздо раньше подобная басня приписывала московским государям обладание значительным количеством византийских рукописей, которые император Иоанн поместил в безопасное место пред взятием Константинополя турками. Кардинал Сан-Джиорджио поручил в 1600 г. греку Петру Аркудиусу, прикомандировав его к польскому посольству, проверить этот слух, и оказалось, что он был ложным. Правда, Иван IV и его предшественники владели несколькими книгами и рукописями, но до конца XV века в числе их известна только одна книга на иностранном языке – это немецкий гербарий, и она совершенно терялась среди книг богослужебных, кормчих, хроник и трактатов по астрологии.
Под двойственным влиянием самобытного византизма и материализма, присущего каждому обществу, переживающему первые фазы своего развитая, умственная жизнь здесь разделялась между двумя противоположными течениями, которые иногда сочетались самым причудливым образом. И вот мы видим то аскетизм без всякого идеала, то грубый сенсуализм, одним словом, двойной путь в бездну небытия.
II. Умственные течения
Из первобытной и бесплодной независимости дикарей русские сразу попали под иго суровой и по-своему не менее дикой морали, преследовавшей свободу знания, свободу творчества и даже свободу существования. Все живые силы, которым человечество обязано было своей облагороженностью, были осуждены и прокляты этим учением. Предавался проклятию мир свободной науки, как очаг ереси и неверия. Проклинался мир свободного творчества, как элемент развращенности. Проклиналась даже сама жизнь свободная, с ее радостями, счастьем, мирскими удовольствиями, как нечто позорное. И вот замолкли баяны при дворах князей. В летописях воодушевленный тон и поэтически обороты, свойственные писателям XI и XII века, уступили место сухому дидактическому повествованию, изгонявшему эпический элемент даже из тех документов, которыми оно пользовалось. Даже простая беседа, если она отклонялась от религиозных рассуждений, подвергалась анафеме. Воздержание во всех видах стало главным правилом жизни. В некоторых семьях приучают детей с раннего возраста обходиться без молока. В два года они уже должны соблюдать все посты. Употребление в пищу мяса разрешалось только три раза в неделю. Сношения между супругами запрещались в три дня каждой недели и во все праздничные дни и в течение всех постов. Русским компиляторам византийских писателей хорошо известны слова Катона:
«Мы управляем миром, а женщины нами».
«Пчела» ставить это изречение на видное место, как и слова Демокрита, мужа крошечной женщины: «Я взял наименьшее зло!» Проникаясь тем же принципом, церковь считает женщину главным орудием дьявола в его деморализационной работе. Она проклинает женщину, а вместе с ней и все искусства, так как вдохновительницей их всегда и всюду была женщина.
В религиозной жизни эта тенденция заканчивалась бессмысленным формализмом тех церковных учителей, которые видели вечные истины, непоколебимые, догматы, даже в манере одеваться и носить бороду.
После Флорентийской унии и признания национальной церкви единственной хранительницей священных преданий форма стала скинией, ковчегом, где хранилась вера. Вне его один только латинский рационализм, безразлично, католический или протестантский; как в том, так и в другом случае источник безбожия и ереси. Умствования запрещались. Изгоняя этот существенный фактор прогресса, Москва в интеллектуальном отношении становится ниже Византии, где догматические споры всегда сохраняли за собой право существования. На Руси с XII века подвергаются обсуждению только вопросы такого содержания: «Может ли священник, не спавший ночью после еды, совершать утром литургию?» «Может ли служить, если в его облачении где-нибудь вставлен женский платок?» Даже проповеди, насколько они сохранились, касаются только вопросов обрядности: «Следует ли ходить во время богослужения против солнца или посолонь?» «Креститься двумя или тремя перстами?» Первый церковный собор, созванный Иваном IV, занимался этим вопросом и предал отлучению тех, кто крестится двумя перстами.
Вера, отождествляемая с обрядностью, сводит благочестие к исполнению внешних форм, к соблюдению постов, к долгому стоянию в церкви. Исповедание, как внутренний религиозный акт, отступает на второе место. Наиболее набожные говеют только один раз в год. Самые точные и исполнительные считают, что признаться на исповеди можно только в части своих грехов. Церемонии заменили все. Они становятся все пышнее и приобретают все более и более театральный характер: такова процессия в Вербное воскресенье, когда митрополит садился на осла, объезжал церкви, благословляя народ, расстилавший свои одежды под копыта символического животного. Таково было изображение трех еврейских отроков, брошенных в огненную пещь. Амвон заменялся большой печью и в нее вводили со сложными обрядами трех юношей, одетых в белое. Не доходило только лишь до того, чтобы их сжечь на самом деле.