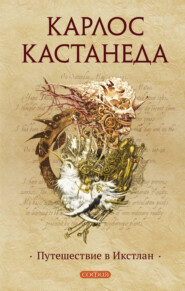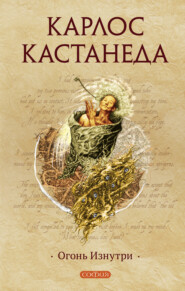По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дар орла
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Он знает, – сказала она.
Все уставились на меня, ожидая ответа.
Я рассердился и заорал на Розу, что не ее дело лезть с заявлениями, которые в действительности являются обвинениями. Я никоим образом не лгал им.
На Розу не подействовала моя вспышка. Она спокойно объяснила, что помнит, как эта дама говорила ей, что я еще вернусь после того, как оправлюсь от своей болезни. Роза поняла это так, что дама заботится и обо мне, лечит меня, и поэтому я должен знать, кто она такая и где она, поскольку я уже явно выздоровел.
– Что за болезнь была у меня, Роза? – спросил я.
– Ты заболел, потому что не смог удерживать свой мир, – сказала она очень убежденно. – Кто-то говорил мне, я думаю, давным-давно, что ты не создан для нас, точно так же как Элихио говорил Ла Горде в сновидениях. Поэтому ты нас и покинул, и Лидия так и не простила тебе этого. Она будет ненавидеть тебя и за границами этого мира.
Лидия запротестовала, сказав, что ее чувства не имеют ничего общего с тем, что говорит Роза. Она просто очень легко выходит из себя и сердится из-за моей глупости.
Я спросил Хосефину, помнит ли она меня тоже.
– Конечно, помню, – сказала она с улыбкой. – Но ты же знаешь, что я сумасшедшая. Мне нельзя верить. На меня нельзя положиться.
Ла Горда настаивала, чтобы Хосефина сказала о том, что она помнит. Хосефина была настроена не говорить ничего, и они спорили, пока, наконец, Хосефина не сказала мне:
– Какой толк от всех этих разговоров о воспоминаниях, они гроша ломаного не стоят.
Хосефина, казалось, высказалась за всех, больше говорить было не о чем. Они собирались уйти после того, как посидели в вежливом молчании еще несколько минут.
– Я помню, как ты покупал мне красивые платья, – внезапно сказала мне Хосефина. – Разве ты не помнишь, как я упала с лестницы в магазине? Я чуть не поломала ноги, и тебе пришлось меня нести.
Все опять сели, уставившись на Хосефину.
– Еще я помню одну сумасшедшую, она хотела побить меня и гонялась за мной, пока ты не рассердился и не остановил ее.
Я был растерян. Все, казалось, уцепились за слова Хосефины, хотя сама она говорила, чтобы ей не верили, так как она сумасшедшая. Она была права. Ее воспоминания не имели для меня никакого смысла.
– Я тоже помню, почему ты заболел, – сказала она. – Я была там, но не помню где. Они взяли тебя сквозь стену тумана, чтобы разыскать глупышку Ла Горду. Я думаю, она заблудилась. Ты не мог вернуть ее. Когда они принесли тебя назад, ты был почти мертв.
Молчание, последовавшее за ее словами, было гнетущим. Я уже просто боялся что-либо спрашивать.
– Я не могу вспомнить, ради чего она отправилась туда и кто принес тебя оттуда. Глупая Ла Горда клянется, что она не знала тебя, пока ты не пришел к нам в этот дом несколько месяцев назад. Я же узнала тебя сразу. Я помнила, что ты был Нагваль, который заболел. Ты хочешь что-то узнать? Я думаю, эти женщины просто индульгируют, как и глупый Паблито. Они-то должны помнить, ведь они были там же.
– А ты помнишь, где мы были? – спросил я.
– Не помню, – сказала Хосефина. – Однако узнала бы, если бы ты меня туда привез. Когда мы были там, нас называли пьяницами, потому что мы блуждали. У меня в голове тумана было меньше, чем у остальных, поэтому я помню довольно отчетливо.
– Кто называл нас пьяницами? – спросил я.
– Не тебя, только нас, – ответила Хосефина. – Я не помню кто. Наверное, Нагваль Хуан Матус.
Я посмотрел на них, и все отвели глаза.
– Мы подходим к концу, – пробормотал Нестор, как бы говоря сам с собой. – Наш конец уже смотрит нам в лицо.
Казалось, он был на грани слез.
– Я должен быть рад и горд, что мы прибыли к концу, и все же я печален. Не можешь ли ты объяснить это, Нагваль?
Внезапно всех охватила печаль. Даже дерзкая Лидия загрустила.
– Что с вами случилось? – спросил я. – О каком конце вы говорите?
– Я думаю, каждый знает, что это за конец, – сказал Нестор. – В последнее время у меня были странные ощущения. Что-то зовет нас, а мы сопротивляемся, цепляясь.
Паблито, как истинный кавалер, отметил, что Ла Горда единственная среди нас, кто ни за что не цепляется. Все остальные, заверил он меня, безнадежные эгоисты.
– Нагваль сказал, что, когда придет время, мы получим знак, – сказал Нестор. – Что-то такое, что нам действительно нравится, выйдет на передний план и позовет нас.
– Он сказал, что это не обязательно должно быть что-то большое, – добавил Бениньо. – Может подойти что угодно, что нам нравится.
– Для меня знак придет в виде оловянных солдатиков, которых у меня никогда не было, – добавил Бениньо. – Отряд оловянных солдатиков, конных гусар, явится, чтобы забрать меня. А чем это будет для тебя?
Я вспомнил, как дон Хуан говорил мне однажды, что смерть может стоять позади чего угодно, даже позади точки в моем блокноте. А потом он дал мне определенную метафору моей смерти. Я рассказал ему, что, гуляя однажды по бульвару Голливуда в Лос-Анджелесе, я услышал звуки трубы, играющей старый, идиотский популярный мотив. Музыка доносилась из магазина грампластинок на этой улице. Никогда я не слышал более приятных звуков. Я был захвачен ими. Я был вынужден присесть на бордюр. Медные звуки трубы попадали мне прямо в мозг. Я ощущал их над своим правым виском. Они ласкали меня, пока я не опьянел от них. Когда они смолкли, я знал, что нет способа когда-нибудь повторить это ощущение, и у меня было достаточно отрешенности, чтобы не броситься в магазин и не купить эту пластинку вместе со стереопроигрывателем, чтобы слушать и слушать ее.
Дон Хуан сказал, что это было знаком, который дала мне Сила, управляющая судьбой людей. Когда придет мое время покинуть этот мир в какой бы то ни было форме, я услышу те же самые звуки трубы и тот же идиотский мотив, исполняемый тем же трубачом.
* * *
Следующий день был для всех суматошным. Казалось, каждому нужно было сделать бесчисленное множество дел. Ла Горда сказала, что их хлопоты носят личный характер и должны выполняться каждым без посторонней помощи. Я был рад остаться один. У меня тоже имелись свои дела. Я поехал в ближайший городок, который так сильно нарушил мое спокойствие. Я подъехал прямо к дому, имевшему такую притягательную силу для меня и Ла Горды. Я постучал в дверь. Открыла дама. Я сочинил историю, что жил в этом доме ребенком и хотел бы взглянуть на него опять. Она была доброжелательной женщиной и повела меня в дом, многословно извиняясь за несуществующий беспорядок. Этот дом был переполнен скрытыми воспоминаниями. Они были там, я мог их чувствовать, но вспомнить не мог ничего.
* * *
На следующий день Ла Горда уехала ранним утром. Я ожидал, что ее не будет весь день, но к обеду она вернулась. Казалось, она была крайне взволнована.
– Соледад вернулась и хочет тебя видеть, – сказала она напрямик.
Без единого слова объяснения она отвела меня к дому Соледад. Донья Соледад стояла у двери. Она выглядела еще более молодой и сильной, чем когда я ее видел в последний раз. У нее осталось лишь отдаленное сходство с той старой женщиной, которую я знал много лет назад.
Ла Горда была на грани слез. То напряжение, через которое мы проходили, делало ее состояние вполне понятным для меня. Она ушла, не произнеся ни слова.
Донья Соледад сказала, что у нее очень мало времени для разговора со мной и что она собирается использовать каждую минуту. Она производила странное впечатление отрешенности. В каждом ее слове звучала вежливость.
Я сделал жест, чтобы остановить ее и задать вопрос. Самым деликатным образом она прервала меня. Она сказала, что подбирает слова очень тщательно и что недостаток времени позволит ей сказать лишь то, что существенно. Она секунду пристально смотрела мне в глаза, и эта секунда показалась мне неестественно длинной. Это раздражало меня. Она могла бы и смотреть на меня, и в то же время ответить на какие-нибудь вопросы.
Она прервала паузу и заговорила о том, что я воспринял как абсурд. Она сказала, что нападала на меня, поскольку я сам об этом просил в тот день, когда мы впервые пересекли параллельные линии, и что она может лишь надеяться, что ее атака была эффективной и послужила своей цели. Я хотел закричать, что я никогда не просил ее ни о чем подобном, что ничего не знаю о параллельных линиях, и то, что она говорит, – бессмыслица. Она закрыла мне рот ладонью. Я автоматически расслабился. Она выглядела опечаленной. Она сказала, что нет способа, при помощи которого мы могли бы разговаривать, потому что в данный момент мы находимся на двух параллельных линиях и ни у одного из нас нет энергии пересечь их. Только ее глаза могли сообщить мне о ее настроении.
Безо всяких причин я почувствовал себя расслабленным. Что-то во мне смягчилось. Я заметил, что по моим щекам катятся слезы, а затем мной на секунду овладело невероятное ощущение. На короткий момент, но достаточно продолжительный, чтобы пошатнуть основание моего сознания или моей личности, или того, что, как я думал и чувствовал, является «мною». В это мгновение я понял, что мы очень близки друг другу по своим целям и темпераменту. Наши обстоятельства были похожими. Я хотел сказать ей, что это была отчаянная битва, но что она еще не закончена и никогда не закончится. Она прощалась, потому что, будучи безупречным воином, знала, что наши пути никогда не пересекутся. Мы пришли к концу следа. Запоздалая волна чувств общности вырвалась из какого-то темного, непостижимого уголка меня самого. Эта вспышка была подобна электрическому разряду внутри моего тела. Я обнял ее, мои губы двигались, говоря что-то, не имеющее для меня никакого смысла. Ее глаза загорелись. Она тоже говорила что-то, чего я не мог понять. Единственное ощущение, бывшее для меня ясным и состоявшее в том, что я пересек параллельные линии, не имело никакого прагматического значения. Внутри меня вырвался наружу какой-то источник, какая-то необъяснимая сила разрывала меня на части. Я не мог дышать, и все покрылось мглой.
Я почувствовал, как кто-то касается меня и мягко тормошит. В фокусе появилось лицо Ла Горды. Я увидел, что лежу на кровати доньи Соледад, возле меня сидела Ла Горда. Мы были вдвоем.
– Где она? – спросил я.
– Ушла, – ответила Ла Горда.
Все уставились на меня, ожидая ответа.
Я рассердился и заорал на Розу, что не ее дело лезть с заявлениями, которые в действительности являются обвинениями. Я никоим образом не лгал им.
На Розу не подействовала моя вспышка. Она спокойно объяснила, что помнит, как эта дама говорила ей, что я еще вернусь после того, как оправлюсь от своей болезни. Роза поняла это так, что дама заботится и обо мне, лечит меня, и поэтому я должен знать, кто она такая и где она, поскольку я уже явно выздоровел.
– Что за болезнь была у меня, Роза? – спросил я.
– Ты заболел, потому что не смог удерживать свой мир, – сказала она очень убежденно. – Кто-то говорил мне, я думаю, давным-давно, что ты не создан для нас, точно так же как Элихио говорил Ла Горде в сновидениях. Поэтому ты нас и покинул, и Лидия так и не простила тебе этого. Она будет ненавидеть тебя и за границами этого мира.
Лидия запротестовала, сказав, что ее чувства не имеют ничего общего с тем, что говорит Роза. Она просто очень легко выходит из себя и сердится из-за моей глупости.
Я спросил Хосефину, помнит ли она меня тоже.
– Конечно, помню, – сказала она с улыбкой. – Но ты же знаешь, что я сумасшедшая. Мне нельзя верить. На меня нельзя положиться.
Ла Горда настаивала, чтобы Хосефина сказала о том, что она помнит. Хосефина была настроена не говорить ничего, и они спорили, пока, наконец, Хосефина не сказала мне:
– Какой толк от всех этих разговоров о воспоминаниях, они гроша ломаного не стоят.
Хосефина, казалось, высказалась за всех, больше говорить было не о чем. Они собирались уйти после того, как посидели в вежливом молчании еще несколько минут.
– Я помню, как ты покупал мне красивые платья, – внезапно сказала мне Хосефина. – Разве ты не помнишь, как я упала с лестницы в магазине? Я чуть не поломала ноги, и тебе пришлось меня нести.
Все опять сели, уставившись на Хосефину.
– Еще я помню одну сумасшедшую, она хотела побить меня и гонялась за мной, пока ты не рассердился и не остановил ее.
Я был растерян. Все, казалось, уцепились за слова Хосефины, хотя сама она говорила, чтобы ей не верили, так как она сумасшедшая. Она была права. Ее воспоминания не имели для меня никакого смысла.
– Я тоже помню, почему ты заболел, – сказала она. – Я была там, но не помню где. Они взяли тебя сквозь стену тумана, чтобы разыскать глупышку Ла Горду. Я думаю, она заблудилась. Ты не мог вернуть ее. Когда они принесли тебя назад, ты был почти мертв.
Молчание, последовавшее за ее словами, было гнетущим. Я уже просто боялся что-либо спрашивать.
– Я не могу вспомнить, ради чего она отправилась туда и кто принес тебя оттуда. Глупая Ла Горда клянется, что она не знала тебя, пока ты не пришел к нам в этот дом несколько месяцев назад. Я же узнала тебя сразу. Я помнила, что ты был Нагваль, который заболел. Ты хочешь что-то узнать? Я думаю, эти женщины просто индульгируют, как и глупый Паблито. Они-то должны помнить, ведь они были там же.
– А ты помнишь, где мы были? – спросил я.
– Не помню, – сказала Хосефина. – Однако узнала бы, если бы ты меня туда привез. Когда мы были там, нас называли пьяницами, потому что мы блуждали. У меня в голове тумана было меньше, чем у остальных, поэтому я помню довольно отчетливо.
– Кто называл нас пьяницами? – спросил я.
– Не тебя, только нас, – ответила Хосефина. – Я не помню кто. Наверное, Нагваль Хуан Матус.
Я посмотрел на них, и все отвели глаза.
– Мы подходим к концу, – пробормотал Нестор, как бы говоря сам с собой. – Наш конец уже смотрит нам в лицо.
Казалось, он был на грани слез.
– Я должен быть рад и горд, что мы прибыли к концу, и все же я печален. Не можешь ли ты объяснить это, Нагваль?
Внезапно всех охватила печаль. Даже дерзкая Лидия загрустила.
– Что с вами случилось? – спросил я. – О каком конце вы говорите?
– Я думаю, каждый знает, что это за конец, – сказал Нестор. – В последнее время у меня были странные ощущения. Что-то зовет нас, а мы сопротивляемся, цепляясь.
Паблито, как истинный кавалер, отметил, что Ла Горда единственная среди нас, кто ни за что не цепляется. Все остальные, заверил он меня, безнадежные эгоисты.
– Нагваль сказал, что, когда придет время, мы получим знак, – сказал Нестор. – Что-то такое, что нам действительно нравится, выйдет на передний план и позовет нас.
– Он сказал, что это не обязательно должно быть что-то большое, – добавил Бениньо. – Может подойти что угодно, что нам нравится.
– Для меня знак придет в виде оловянных солдатиков, которых у меня никогда не было, – добавил Бениньо. – Отряд оловянных солдатиков, конных гусар, явится, чтобы забрать меня. А чем это будет для тебя?
Я вспомнил, как дон Хуан говорил мне однажды, что смерть может стоять позади чего угодно, даже позади точки в моем блокноте. А потом он дал мне определенную метафору моей смерти. Я рассказал ему, что, гуляя однажды по бульвару Голливуда в Лос-Анджелесе, я услышал звуки трубы, играющей старый, идиотский популярный мотив. Музыка доносилась из магазина грампластинок на этой улице. Никогда я не слышал более приятных звуков. Я был захвачен ими. Я был вынужден присесть на бордюр. Медные звуки трубы попадали мне прямо в мозг. Я ощущал их над своим правым виском. Они ласкали меня, пока я не опьянел от них. Когда они смолкли, я знал, что нет способа когда-нибудь повторить это ощущение, и у меня было достаточно отрешенности, чтобы не броситься в магазин и не купить эту пластинку вместе со стереопроигрывателем, чтобы слушать и слушать ее.
Дон Хуан сказал, что это было знаком, который дала мне Сила, управляющая судьбой людей. Когда придет мое время покинуть этот мир в какой бы то ни было форме, я услышу те же самые звуки трубы и тот же идиотский мотив, исполняемый тем же трубачом.
* * *
Следующий день был для всех суматошным. Казалось, каждому нужно было сделать бесчисленное множество дел. Ла Горда сказала, что их хлопоты носят личный характер и должны выполняться каждым без посторонней помощи. Я был рад остаться один. У меня тоже имелись свои дела. Я поехал в ближайший городок, который так сильно нарушил мое спокойствие. Я подъехал прямо к дому, имевшему такую притягательную силу для меня и Ла Горды. Я постучал в дверь. Открыла дама. Я сочинил историю, что жил в этом доме ребенком и хотел бы взглянуть на него опять. Она была доброжелательной женщиной и повела меня в дом, многословно извиняясь за несуществующий беспорядок. Этот дом был переполнен скрытыми воспоминаниями. Они были там, я мог их чувствовать, но вспомнить не мог ничего.
* * *
На следующий день Ла Горда уехала ранним утром. Я ожидал, что ее не будет весь день, но к обеду она вернулась. Казалось, она была крайне взволнована.
– Соледад вернулась и хочет тебя видеть, – сказала она напрямик.
Без единого слова объяснения она отвела меня к дому Соледад. Донья Соледад стояла у двери. Она выглядела еще более молодой и сильной, чем когда я ее видел в последний раз. У нее осталось лишь отдаленное сходство с той старой женщиной, которую я знал много лет назад.
Ла Горда была на грани слез. То напряжение, через которое мы проходили, делало ее состояние вполне понятным для меня. Она ушла, не произнеся ни слова.
Донья Соледад сказала, что у нее очень мало времени для разговора со мной и что она собирается использовать каждую минуту. Она производила странное впечатление отрешенности. В каждом ее слове звучала вежливость.
Я сделал жест, чтобы остановить ее и задать вопрос. Самым деликатным образом она прервала меня. Она сказала, что подбирает слова очень тщательно и что недостаток времени позволит ей сказать лишь то, что существенно. Она секунду пристально смотрела мне в глаза, и эта секунда показалась мне неестественно длинной. Это раздражало меня. Она могла бы и смотреть на меня, и в то же время ответить на какие-нибудь вопросы.
Она прервала паузу и заговорила о том, что я воспринял как абсурд. Она сказала, что нападала на меня, поскольку я сам об этом просил в тот день, когда мы впервые пересекли параллельные линии, и что она может лишь надеяться, что ее атака была эффективной и послужила своей цели. Я хотел закричать, что я никогда не просил ее ни о чем подобном, что ничего не знаю о параллельных линиях, и то, что она говорит, – бессмыслица. Она закрыла мне рот ладонью. Я автоматически расслабился. Она выглядела опечаленной. Она сказала, что нет способа, при помощи которого мы могли бы разговаривать, потому что в данный момент мы находимся на двух параллельных линиях и ни у одного из нас нет энергии пересечь их. Только ее глаза могли сообщить мне о ее настроении.
Безо всяких причин я почувствовал себя расслабленным. Что-то во мне смягчилось. Я заметил, что по моим щекам катятся слезы, а затем мной на секунду овладело невероятное ощущение. На короткий момент, но достаточно продолжительный, чтобы пошатнуть основание моего сознания или моей личности, или того, что, как я думал и чувствовал, является «мною». В это мгновение я понял, что мы очень близки друг другу по своим целям и темпераменту. Наши обстоятельства были похожими. Я хотел сказать ей, что это была отчаянная битва, но что она еще не закончена и никогда не закончится. Она прощалась, потому что, будучи безупречным воином, знала, что наши пути никогда не пересекутся. Мы пришли к концу следа. Запоздалая волна чувств общности вырвалась из какого-то темного, непостижимого уголка меня самого. Эта вспышка была подобна электрическому разряду внутри моего тела. Я обнял ее, мои губы двигались, говоря что-то, не имеющее для меня никакого смысла. Ее глаза загорелись. Она тоже говорила что-то, чего я не мог понять. Единственное ощущение, бывшее для меня ясным и состоявшее в том, что я пересек параллельные линии, не имело никакого прагматического значения. Внутри меня вырвался наружу какой-то источник, какая-то необъяснимая сила разрывала меня на части. Я не мог дышать, и все покрылось мглой.
Я почувствовал, как кто-то касается меня и мягко тормошит. В фокусе появилось лицо Ла Горды. Я увидел, что лежу на кровати доньи Соледад, возле меня сидела Ла Горда. Мы были вдвоем.
– Где она? – спросил я.
– Ушла, – ответила Ла Горда.