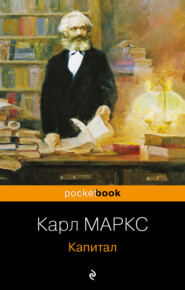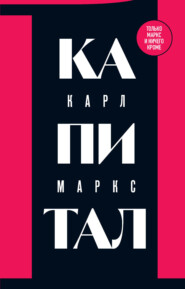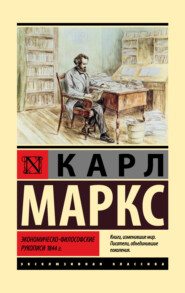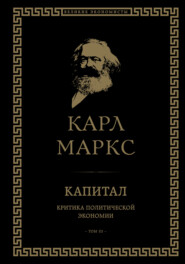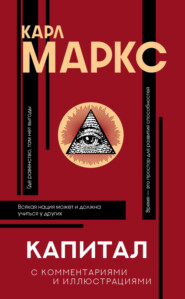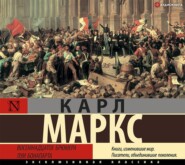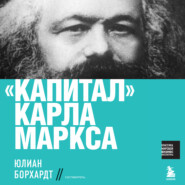По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Капитал. Том первый
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так как качество и интенсивность труда контролируются здесь самой формой заработной платы, то надзор за трудом становится в значительной мере излишним. Поэтому поштучная плата образует основу как описанной выше современной работы на дому, так и иерархически расчленённой системы эксплуатации и угнетения. Последняя имеет две основных формы. С одной стороны, поштучная плата облегчает внедрение паразитов между капиталистом и наёмным рабочим, перепродажу труда посредниками (subletting of labour). Прибыль посредников образуется исключительно за счёт разницы между ценой труда, уплачиваемой капиталистом, и той частью этой цены, которую посредники действительно оставляют рабочему.[993 - «Когда работа проходит через руки многих лиц, каждое из которых получает долю прибыли, но только последнее действительно прилагает свой труд, тогда плата, действительно получаемая работницей, чрезвычайно ничтожна» («Children's Employment Commission. 2nd Report», p. LXX, № 424).] В Англии эта система носит характерное название «sweating system» (потогонная система). С другой стороны, поштучная плата позволяет капиталисту заключать со старшим рабочим – в мануфактуре с главой группы, в шахтах – с углекопом и т. п., на фабрике – с собственно машинным рабочим – контракт на определённое число штук продукта по определённой цене, за которую старший рабочий берёт на себя привлечение и оплату подручных. Эксплуатация рабочих капиталом осуществляется здесь при посредстве эксплуатации одного рабочего другим рабочим.[994 - Даже апологет Уотс замечает: «Было бы существенным улучшением системы сдельной платы, если бы все лица, занятые данной работой, были, в соответствии со своими способностями, непосредственными участниками контракта, вместо такого положения, когда лишь один рабочий заинтересован в чрезмерном труде своих товарищей, извлекая из этого личную выгоду» (John Watts. «Trade Societies and Strikes, Machinery and Cooperative Societies». Manchester, 1865, p. 53). Относительно гнусностей, связанных с этой системой, см. «Children's Employment Commission. 3rd Report», p. 66, № 22; p. 11, № 124; p. XI, №№ 13, 53, 59 и т. д.]
Раз существует поштучная заработная плата, то естественно, что личный интерес рабочего заставляет его как можно интенсивнее напрягать свою рабочую силу, что, в свою очередь, облегчает для капиталиста повышение нормального уровня интенсивности.[995 - Этому естественному результату зачастую содействуют искусственными мерами. Так, например, в машиностроительном производстве Лондона является обычным следующий трюк: «Капиталист ставит во главе известного числа рабочих человека, выдающегося по своей физической силе или ловкости. Каждую четверть года или в иные сроки он уплачивает ему надбавку на условии, что он сделает все возможное, чтобы побудить к самому крайнему напряжению сил своих товарищей по работе, получающих обычную плату… Это без всяких дальнейших комментариев объясняет происхождение жалобы капиталистов на тред-юнионы, которые будто бы „парализуют анергию, выдающееся искусство и рабочую силу“ („stinting the action, superior skill and working power“)» (Dunning, цит. соч., стр. 22, 23). Так как автор – сам рабочий и секретарь тред-юниона, то слова его могут показаться преувеличением. Но загляните, например, в «высокореспектабельную» агрономическую энциклопедию Дж. Ч. Мортона, – и вы увидите, что в статье «Рабочий» этот же самый метод рекомендуется фермерам как испытанный метод.] Точно так же личный интерес рабочего побуждает его удлинять свой рабочий день, так как тем самым повышается его дневная или недельная заработная плата.[996 - «Для всех, кто получает поштучную плату… выгодно увеличение продолжительности труда за установленные законом границы. Такая готовность работать чрезмерное время особенно часто наблюдается среди женщин-ткачих и мотальщиц» («Reports of Insp. of Fact, for 30th April 1858», p. 9). «Эта система поштучной платы, столь выгодная для капиталиста… направлена непосредственно к тому, чтобы побудить юного горшечника работать чрезмерно продолжительное время в течение 4 или 5 лет, причём он получает поштучно, но по весьма низкой расценке. Это одна из главных причин, вызывающих физическую дегенерацию горшечников» («Children's Employment Commission. 1st Report», p. XIII).] Это вызывает реакцию, описанную при исследовании повременной заработной платы, не говоря уже о том, что удлинение рабочего дня, даже при постоянной поштучной заработной плате, само по себе означает падение цены труда.
При повременной заработной плате господствует, за немногими исключениями, равная плата за одни и те же функции; при поштучной же плате, хотя цена рабочего времени измеряется определённым количеством продукта, дневная и недельная плата меняется в зависимости от индивидуальных различий между рабочими, один из которых доставляет в данное время минимум продукта, другой – среднюю норму, третий – больше средней нормы. Следовательно, величина действительного дохода рабочего в данном случае сильно колеблется в зависимости от искусства, силы, энергии, выносливости и т. п. индивидуальных рабочих.[997 - «Если в каком-нибудь производстве труд оплачивается сдельно по стольку-то за штуку, то… заработные платы различных рабочих могут очень значительно отличаться друг от друга по размерам… При подённой же работе существует обыкновенно однообразная оценка… признанная и предпринимателем и рабочим нормой заработной платы для средних рабочих данного производства» (Dunning, цит. соч., стр. 17).] Конечно, это ничуть не изменяет общего отношения между капиталом и наёмным трудом. Во-первых, индивидуальные различия сглаживаются, если взять мастерскую в целом, так что эта последняя в течение определённого рабочего времени доставляет среднее количество продукта, а совокупная заработная плата, выданная рабочим мастерской, является средней заработной платой данной отрасли производства. Во-вторых, отношение между заработной платой и прибавочной стоимостью остаётся неизменным, так как индивидуальной плате отдельного рабочего соответствует индивидуально произведённое им количество прибавочной стоимости. Поштучная плата, расширяя сферу индивидуальной деятельности, тем самым, с одной стороны, способствует развитию у рабочих индивидуальности, духа свободы, самостоятельности и способности к самоконтролю, но, с другой стороны, порождает между ними взаимную конкуренцию. Она имеет поэтому тенденцию, повышая индивидуальную заработную плату выше среднего уровня, в то же время понижать самый этот уровень. Однако там, где определённая поштучная плата прочно закреплена продолжительной традицией и потому понижение её представляет особые трудности, – в таких случаях хозяева прибегают иногда к насильственному превращению поштучной платы в повременную. Этим была вызвана, например, в 1860 г. большая стачка рабочих ленточного производства в Ковентри.[998 - «Труд ремесленников-подмастерьев регулируется или подённо, или поштучно (? la journеe ou ? la pi?ce)… Хозяева приблизительно знают, сколько продукта могут ежедневно изготовить рабочие данного ремесла, и поэтому зачастую оплачивают их пропорционально произведённому продукту; при этом собственный интерес подмастерьев, независимо от надзора, побуждает их трудиться возможно дольше» (Cantillon, «Essai sur la Nature du Commerce en gеnеral», ed. Amsterdam, 1756, p. 185, 202. Первое издание вышло в 1755 г.). Таким образом, Кантильон, из которого обильно заимствовали Кенэ, сэр Джемс Стюарт и А. Смит, изображает здесь поштучную заработную плату просто как модифицированную форму повременной заработной платы. Французское издание Кантильона имеет на заглавной странице пометку, будто это перевод с английского, между тем английское издание «The Analysis of Trade, Commerce etc.» by Philip Cantillon, late of the City of London, Merchant, не только вышло после французского (в 1759 г.), но и по самому содержанию своему представляет собой позднейшую переработку. Так, например, во французском издании Юм ещё не упоминается, а в английском, наоборот, Петти почти уже не фигурирует. Английское издание теоретически менее значительно, но зато содержит всякого рода специальный материал относительно английской торговли, торговли благородными металлами и т., чего нет во французском издании. Поэтому фраза в заглавии английского издания, гласящая, что работа эта «taken chiefly from the Manuscript of a very ingenious Gentleman deceased, and adapted etc.» [ «заимствована главным образом из рукописи одного высокоодарённого джентльмена, ныне умершего, адаптирована и т. д.»], представляется больше, чем просто выдумкой, обычной для того времени. Автором книги «Essai sur la nature du commerce en gеnеral» («Опыт о природе торговли вообще») является Ричард Кантильон. Для английского издания этот труд подвергся переработке родственником Ричарда Кантильона Филипом Кантильоном.] Наконец, поштучная плата является главной опорой описанной выше почасовой системы.[999 - «Сколько раз приходилось нам видеть в некоторых мастерских скопление большего количества рабочих, чем это нужно для выполнения имеющейся там работы. Часто берут рабочих на случай какой-либо непредвиденной работы, иногда существующей только в воображении; так как рабочим платят поштучно, то хозяин ничем не рискует, потому что при этом весь ущерб, происходящий от потери времени, ложится исключительно на остающихся без занятий рабочих» (H. Grеgoir. «Les Typographes devant le Tribunal Correctionnel de Bruxelles», Bruxelles, 1865, p. 9).]
Из всего вышесказанного вытекает, что поштучная плата есть форма заработной платы, наиболее соответствующая капиталистическому способу производства. Отнюдь не представляя чего-либо нового, – поштучная плата наряду с повременной официально фигурирует, между прочим, во французских и английских рабочих статутах XIV века, – она, однако, приобретает более или менее обширное поле применения лишь в собственно мануфактурный период. В 1797–1815 гг., когда крупная промышленность переживала период бури и натиска, поштучная заработная плата послужила рычагом для удлинения рабочего времени и понижения заработной платы. Очень важный материал о движении заработной платы в тот период мы находим в Синих книгах: «Report and Evidence from the Select Committee on Petitions respecting the Corn Laws» (парламентская сессия 1813–1814 гг.) и «Reports from the Lords' Committee, on the state of the Growth, Commerce, and Consumption of Grain, and all Laws relating thereto» (сессия 1814–1815 гг.). Здесь мы находим документальные доказательства непрерывного понижения цены труда с того времени, как началась антиякобинская война. Например, в ткацком деле поштучная плата упала до такой степени, что, несмотря на большое удлинение рабочего дня, дневная плата оказалась ниже, чем была раньше.
«Реальный доход ткача в настоящее время много меньше, чем был раньше: преимущества ткача по сравнению с неквалифицированным рабочим, некогда очень значительные, теперь почти совершенно исчезли. В самом деле, разница между заработной платой квалифицированного и неквалифицированного труда теперь гораздо меньше, чем в течение любого из прежних периодов».[1000 - «Remarks on the Commercial Policy of Great Britain». London, 1815, p.]
Как мало пользы извлёк сельскохозяйственный пролетариат из возрастания интенсивности и увеличения продолжительности труда под влиянием поштучной платы, показывает следующее место, взятое из произведения, отстаивающего с пристрастием интересы лендлордов и арендаторов.
«Подавляющая часть земледельческих операций выполняется людьми, оплачиваемыми подённо или поштучно. Их недельная плата равняется приблизительно 12 шилл., и хотя можно предположить, что при поштучной оплате, побуждающей трудиться более напряжённо, рабочий выработает на 1 или 2 шилл. больше, чем при понедельной, однако при рассмотрении его дохода в целом окажется, что эта прибавка сводится на нет потерей, вызванной отсутствием работы в известные периоды года… Мы далее вообще найдём, что заработные платы этих людей находятся в определённом отношении к цене необходимых жизненных средств, так что человек, имеющий двух детей, в состоянии заработать как раз столько, сколько ему требуется для того, чтобы содержать своё семейство, не прибегая к приходской благотворительности».[1001 - «A Defence of the Landowners and of Farmers of Great Britain». London, 1814, p. 4, 5.]
Мальтус заметил тогда по поводу фактов, опубликованных парламентом:
«Признаюсь, я с неудовольствием смотрю на широкое распространение практики поштучной оплаты. Тяжёлый труд по 12–14 часов в день в течение более или менее продолжительного периода – это действительно слишком много для человеческого существа».[1002 - Malthus. «Inquiry into the Nature etc. of Rent». London, 1815.]
В мастерских, подчинённых действию фабричного закона, поштучная заработная плата становится общим правилом, так как здесь капитал может расширить рабочий день только интенсивно.[1003 - «Рабочие, получающие поштучную плату, составляют, вероятно, 4/5 всех фабричных рабочих» («Rep. of Insp. of Fact, for 30th April 1858», p. 9).]
С изменением производительности труда изменяется рабочее время, представленное одним и тем же количеством продукта. Следовательно, изменяется также и поштучная плата, так как она есть выражение цены определённого рабочего времени. В нашем приведённом выше примере 24 штуки продукта производились в течение 12 часов, стоимость, вновь созданная за 42 часов, была 6 шилл., дневная стоимость рабочей силы 3 шилл., цена рабочего часа 3 пенса и заработная плата 1? пенса за штуку. Каждая штука товара впитывала в себя ? рабочего часа. Если тот же самый рабочий день станет доставлять 48 штук продукта вместо 24, вследствие, например, удвоения производительности труда, и если все остальные обстоятельства не изменятся, то поштучная плата упадёт с 1? пенса до ? пенса, так как каждая штука представляет теперь не ? рабочего часа, а только ? его. 1? пенса ? 24 = 3 шилл, и ? пенса ? 48 = 3 шиллинга. Другими словами, поштучная плата понижается в том самом отношении, в каком возрастает число штук товара, произведённого в течение одного и того же времени,[1004 - «Производительная сила его прядильной машины точно измерена, и размеры платы за труд, совершаемый при её помощи, уменьшаются с ростом её производительной силы, хотя и не в той же пропорции» (Ure. «Philosophy of Manufactures», p. 317). Последнее апологетическое замечание сам же Юр уничтожает в дальнейшем изложении. Он признаёт, например, что при удлинении мюля добавочный труд вызывается самый этим удлинением. Следовательно, труд уменьшается не в той степени, в какой растёт его производительность. Далее: «При таком увеличении машины её производительная сила возрастает на 1/5. Если это действительно совершится, прядильщик уже не будет получать за данное количество труда ту плату, какую он получал раньше; но так как его плата не уменьшится точно на 1/5, то это усовершенствование увеличит его денежный заработок за данное число рабочих часов», – но… но «вышесказанное требует известной поправки… прядильщик из своих добавочных шести пенсов должен уплатить кое-что на содержание малолетних подручных… которые вытесняют часть взрослых рабочих» (там же, стр. 320, 321), что отнюдь не свидетельствует о тенденции к возрастанию заработной платы.] следовательно, в том самом отношении, в каком уменьшается рабочее время, затрачиваемое на одну штуку. Это изменение поштучной платы, хотя здесь оно является чисто номинальным, служит постоянным источником борьбы между капиталистом и рабочим: или потому, что капиталист пользуется им как предлогом для действительного понижения цены труда, – или потому, что повышение производительной силы труда сопровождается повышением его интенсивности, – или же потому, что рабочий всерьёз принимает внешнюю форму поштучной заработной платы, полагая, что оплачивается продукт его труда, а не его рабочая сила, и ввиду этого противится всякому понижению заработной платы, раз оно не сопровождается соответственным понижением продажной цены товара.
«Рабочие тщательно следят за ценой сырого материала и ценой фабрикатов и в состоянии точно определить прибыли своих хозяев».[1005 - Н. Fawcett. «The Economic Position of the British Labourer». Cambridge and London, 1865, p. 178.]
Такие притязания капитал с полным правом отвергает как основанные на грубом непонимании природы наёмного труда.[1006 - В лондонской газете «Standard» от 26 октября 1861 г. мы находим отчёт о процессе фирмы Джон Брайт и K°, «привлёкшей в Рочдейле членов тред-юниона ткачей ковров к суду по обвинению в запугивании. Фирма Брайт ввела новые машины, которые вырабатывают 240 ярдов ковра в такое же время и с такой же затратой труда (!), каких раньше требовало производство 160 ярдов. Рабочие не имеют основания претендовать на долю той прибыли, которая создаётся благодаря тому, что капитал их предпринимателей затрачивается на технические усовершенствования. Исходя из этого, гг. Брайт предложили понижение заработной платы с 1? пенсов до 1 пенса за ярд, причём общий заработок рабочего за данный труд остаётся совершенно таким же, как раньше. Тут было только номинальное понижение платы, о котором, как утверждают, рабочие не были предупреждены заранее».] Он возмущается претензией рабочих облагать в свою пользу налогом прогресс промышленности и категорически заявляет, что рабочим вообще нет никакого дела до производительности их собственного труда.[1007 - «Тред-юнионы, стараясь поддерживать определённый уровень заработной платы, стремятся добиться участия в прибыли, проистекающей от улучшения машин!» (Ужасно!..) «Они требуют повышения платы на том основании, что труд сокращается… другими словами: они стремятся обложить налогом промышленные усовершенствования» («On Combination of Trades». New Edit., London, 1834, p. 42).]
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
В пятнадцатой главе мы рассмотрели разнообразные комбинации, которые может повлечь за собой изменение абсолютной или относительной (т. е. по сравнению с прибавочной стоимостью) величины стоимости рабочей силы, причём оказалось, что количество жизненных средств, в которых реализуется цена рабочей силы, может испытывать изменения, независимые[1008 - «Не точно было бы сказать, что заработная плата» (речь идёт о её денежном выражении) «возросла, если на неё можно купить большее количество более дешёвого продукта» (Давид Бьюкенен в его издании «Wealth of Nations» А. Смита, 1814 г., т. 1, стр. 417, примечание).] или отличные от колебаний этой цены. Как уже было отмечено, путём простого перехода стоимости – соответственно цены – рабочей силы в экзотерическую форму заработной платы все указанные там законы превращаются в законы движения заработной платы. То, что в пределах этого движения представляется в виде последовательно сменяющих друг друга комбинаций, то для различных стран может представляться как одновременно существующее национальное различие заработных плат. Следовательно, при сравнении заработных плат разных стран необходимо принять во внимание все моменты, определяющие изменения в величине стоимости рабочей силы: цену и объём естественных и исторически развившихся первейших жизненных потребностей, издержки воспитания рабочего, роль женского и детского труда, производительность труда, его экстенсивную и интенсивную величину. Даже самое поверхностное сравнение требует прежде всего сведе?ния средней дневной заработной платы в данном производстве различных стран к рабочему дню одинаковой продолжительности. После такого уравнивания дневных заработных плат повременная плата должна быть переведена на поштучную, так как только эта последняя даёт мерило и для производительности и для интенсивности труда.
В каждой стране существует известная средняя интенсивность труда; труд, не достигающий этой средней интенсивности, означает затрату на производство данного товара времени больше, чем общественно необходимо в этой стране, и потому не является трудом нормального качества. Только та степень интенсивности, которая поднимается выше национальной средней, изменяет в данной стране измерение стоимости простой продолжительностью рабочего времени. Иначе обстоит дело на мировом рынке, интегральными частями которого являются отдельные страны. Средняя интенсивность труда изменяется от страны к стране; здесь она больше, там меньше. Эти национальные средние образуют, таким образом, шкалу, единицей измерения которой является средняя единица труда всего мира. Следовательно, более интенсивный национальный труд по сравнению с менее интенсивным производит в равное время бо?льшую стоимость, которая выражается в большем количестве денег.
Но закон стоимости в его интернациональном применении претерпевает ещё более значительные изменения благодаря тому, что на мировом рынке более производительный национальный труд принимается в расчёт тоже как более интенсивный, если только конкуренция не принудит более производительную нацию понизить продажную цену её товара до его стоимости.
Интенсивность и производительность национального труда в данной стране поднимается выше интернационального уровня в той самой мере, в какой развивается капиталистическое производство этой страны.[1009 - В другом месте мы исследуем, какие обстоятельства могут видоизменить действие этого закона для отдельных отраслей промышленности в его применении к производительности труда.] Следовательно, различные количества товаров одного и того же вида, производимые в различных странах в равное рабочее время, имеют неодинаковые интернациональные стоимости, выражающиеся в различных ценах, т. е. в денежных суммах, различных по величине в зависимости от различия интернациональных стоимостей. Таким образом, относительная стоимость денег меньше у нации с более развитым, чем у нации с менее развитым капиталистическим способом производства. Отсюда следует, что номинальная заработная плата, т. е. выраженный в деньгах эквивалент рабочей силы, у первой нации будет выше, чем у второй; но это отнюдь ещё не значит, что там будет больше и действительная заработная плата, т. е. количество жизненных средств, находящихся в распоряжении рабочего.
Но если даже оставить в стороне это относительное различие в стоимости денег в различных странах, часто оказывается, что дневная, недельная и т. д. заработная плата у первой нации выше, чем у второй, тогда как относительная цена труда, т. е. цена труда по сравнению с прибавочной стоимостью и стоимостью продукта, у второй нации выше, чем у первой.[1010 - Джемс Андерсон замечает, полемизируя с А. Смитом: «Следует также заметить, что хотя кажущаяся цена труда обыкновенно ниже в бедных странах, где продукты земледелия и в особенности хлеб дёшевы, тем не менее действительная цена труда там обыкновенно выше, чем в других странах. Ибо не заработная плата, выдаваемая рабочему за день труда, образует действительную цену труда, хотя она и есть его кажущаяся цена. Действительная цена есть то, во что на деле обходится предпринимателю определённое количество готового продукта, и рассматриваемый с этой точки зрения труд почти во всех случаях оказывается более дешёвым в богатых странах, чем в более бедных, несмотря на то, что цена хлеба и других жизненных средств в последних обыкновенно ниже, чем в первых… Труд, оцениваемый подённо, значительно дешевле в Шотландии, чем в Англии… Труд же при расчёте на штуку товара в общем дешевле в Англии» (James Anderson. «Observations on the means of exciting a spirit of National Industry etc.». Edinburgh, 1777, p. 350, 351). – Наоборот, низкая заработная плата вызывает, в свою очередь, вздорожание труда. «Труд дороже в Ирландии, чем в Англии… как раз потому, что заработная плата там значительно ниже» (№ 2074 в «Royal Commission on Railways, Minutes», 1867).]
Дж. У. Кауэлл, член фабричной комиссии 1833 г., тщательно исследовав прядильное производство, пришёл к выводу, что «по существу дела в Англии заработная плата с точки зрения фабрикантов ниже, чем на континенте, хотя с точки зрения рабочих она может быть и выше» (Ure. «Philosophy of Manufactures», p. 314).
Английский фабричный инспектор Александр Редгрейв в фабричном отчёте от 31 октября 1866 г. при помощи сравнительной статистики Англии и континентальных стран доказывает, что континентальный труд, несмотря на более низкую плату и гораздо более продолжительный рабочий день, дороже по сравнению с продуктом, чем английский. Англичанин-директор (manager) одной хлопчатобумажной фабрики в Ольденбурге заявляет, что там рабочее время продолжается ежедневно, не исключая и субботы, с 5 часов 30 минут утра до 8 часов вечера, и что тамошние рабочие под надзором надсмотрщиков-англичан производят несколько меньше продуктов, чем английские рабочие в течение 10 часов, а под надзором немецких надсмотрщиков ещё много меньше. Заработная плата там много ниже, чем в Англии, во многих случаях на целые 50 %, но число рабочих, приходящееся на данное количество машин, гораздо больше; в некоторых отделениях оно относится к английскому как 5:3. Г-н Редгрейв приводит очень подробные данные относительно русских хлопчатобумажных фабрик. Данные эти сообщил ему один английский manager, ещё совсем недавно работавший там. На этой русской почве, столь обильной всяческими безобразиями, находятся в полном расцвете старые ужасы младенческого периода английской фабричной системы. Управляющие, конечно, англичане, так как местный русский капиталист непригоден для фабричного дела. Несмотря на чрезмерный труд, непрерывную дневную и ночную работу и мизерную оплату рабочих, русское производство влачит лишь жалкое существование, – и то только благодаря препятствиям, создаваемым для иностранной конкуренции. – В заключение я приведу ещё сделанный г-ном Редгрейвом сравнительный обзор среднего числа веретён, приходящихся в разных странах Европы на одну фабрику и на одного прядильщика. Г-н Редгрейв сам замечает, что эти цифры собраны несколько лет тому назад и что с того времени увеличились и размеры английских фабрик, и число веретён, приходящееся на каждого рабочего. Но он предполагает, что прогресс перечисленных им континентальных стран происходил такими же темпами, так что его цифровые данные сохранили своё относительное значение.
«Это сопоставление», – говорит г-н Редгрейв, – «ещё относительно неблагоприятно для Великобритании, не говоря уже о других обстоятельствах, в особенности потому, что там существует очень много фабрик, на которых машинное ткачество соединено с прядением, а между тем из расчёта не исключено ни одного человека, занятого у ткацкого станка. Напротив, иностранные фабрики в своём большинстве только прядильные. Если было бы возможно найти вполне сравнимые данные, я мог бы назвать в моём округе много бумагопрядилен, где мюль-машины с 2 200 веретёнами управляются одним рабочим (minder) с двумя помощницами и ежедневно производят 220 фунтов пряжи длиною в 400 миль» (английских) («Reports of Insp. of Fact, for 31st October 1866», p. 31–37 passim).
Как известно, в Восточной Европе и в Азии английские компании взяли на себя постройку железных дорог и при этом наряду с местными рабочими используют известное число английских рабочих. Практическая необходимость заставила их учитывать таким путём национальные различия в интенсивности труда, и это отнюдь не принесло им убытка. Их опыт учит, что если уровень заработной платы и соответствует более или менее средней интенсивности труда, то относительная цена труда (по сравнению с продуктом) изменяется обыкновенно в прямо противоположном направлении.
В «Опыте об уровне заработной платы»[1011 - «Essay on the Rate of Wages: with an Examination of the Causes of the Differences in the Conditions of the Labouring Population throughout the World». Philadelphia, 1835.] – одном из самых ранних своих экономических произведений – Г. Кэри старается доказать, что различные национальные заработные платы прямо пропорциональны степени производительности национального рабочего дня. Из этого интернационального соотношения он делает вывод, что заработная плата вообще повышается и падает пропорционально производительности труда. Весь наш анализ производства прибавочной стоимости показывает, что умозаключение это было бы нелепо даже в том случае, если бы Кэри действительно обосновал свои посылки, а не свалил по своему обыкновению в общую кучу некритически и по верхам понадёрганный отовсюду статистический материал. Но лучше всего то, что, по его собственному признанию, в действительности дело не обстоит так, как оно должно было бы обстоять согласно теории. А именно вмешательство государства искажает это естественное экономическое отношение. Необходимо поэтому так исчислять национальные заработные платы, как будто часть их, достающаяся государству в форме налогов, достаётся самому рабочему. Очень не мешало бы г-ну Кэри поразмыслить о том, не являются ли эти «государственные издержки» тоже «естественными плодами» капиталистического развития. Вышеприведённое рассуждение вполне достойно человека, который сначала объявляет капиталистические производственные отношения вечными законами природы и разума, а государственное вмешательство лишь нарушающим их свободную гармоническую игру, а затем открывает, что дьявольское влияние Англии на мировом рынке, – влияние, по-видимому не вытекающее из естественных законов капиталистического производства, – вызывает необходимость государственного вмешательства, а именно государственной защиты этих «законов природы и разума», alias [иначе] – необходимость системы протекционизма. Он открыл далее, что не теоремы Рикардо и других, в которых сформулированы существующие общественные противоположности и противоречия, являются идеальным продуктом действительного экономического развития, а наоборот, действительные противоречия капиталистического производства в Англии и прочих странах суть результат теории Рикардо и других! Он открыл, наконец, что врождённые прелести и гармонии капиталистического способа производства разрушаются в последнем счёте торговлей. Ещё один шаг в этом направлении, и, чего доброго, он откроет, что единственным злом капиталистического производства является сам капитал. Только человек, отличающийся такой ужасающей некритичностыо и такой ложной учёностью, заслужил того, чтобы, несмотря на свою протекционистскую ересь, стать тайным источником гармонической мудрости для какого-нибудь Бастиа и всех прочих оптимистов современного фритредерства.
ОТДЕЛ СЕДЬМОЙ
ПРОЦЕСС НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА
Превращение известной денежной суммы в средства производства и рабочую силу есть первое движение, совершаемое стоимостью, которая должна функционировать в качестве капитала. Происходит оно на рынке, в сфере обращения. Вторая фаза этого движения, процесс производства, закончена, поскольку средства производства превращены в товары, стоимость которых превышает стоимость их составных частей, т. е. содержит в себе первоначально авансированный капитал плюс прибавочную стоимость. Эти товары должны быть затем снова брошены в сферу обращения. Надо продать их, реализовать их стоимость в деньгах, эти деньги вновь превратить в капитал и так всё снова и снова. Этот кругооборот, неизменно проходящий одни и те же последовательные фазы, образует обращение капитала.
Первое условие накопления заключается в том, чтобы капиталисту удалось продать свои товары и снова превратить в капитал бо?льшую часть полученных за них денег. В дальнейшем предполагается, что капитал совершает свой процесс обращения нормальным образом. Подробный анализ этого процесса относится ко второй книге.
Капиталист, производящий прибавочную стоимость, т. е. высасывающий неоплаченный труд непосредственно из рабочих и фиксирующий его в товарах, первый присваивает себе прибавочную стоимость, но отнюдь не является её окончательным собственником. Он должен затем поделиться ею с другими капиталистами, выполняющими иные функции в общественном производстве в его целом, с земельным собственником и т. д.
Таким образом, прибавочная стоимость расщепляется на различные части. Различные её доли попадают в руки лиц различных категорий и приобретают различные, самостоятельные по отношению друг к другу формы, каковы: прибыль, процент, торговая прибыль, земельная рента и т. д. Эти превращённые формы прибавочной стоимости могут быть рассмотрены лишь в третьей книге.
Итак, с одной стороны, мы предполагаем здесь, что капиталист, производящий товары, продаёт их по их стоимости, причём мы не будем рассматривать здесь его обратного возвращения на товарный рынок: ни тех новых форм, которые принимает капитал в сфере обращения, ни скрытых в них конкретных условий воспроизводства. С другой стороны, мы предполагаем, что капиталистический производитель является собственником всей прибавочной стоимости или, если угодно, представителем всех участников в дележе её. Таким образом, сначала мы рассмотрим накопление абстрактно, т. е. просто как момент непосредственного процесса производства.
Впрочем, поскольку накопление совершается, постольку очевидно, что капиталисту удаётся продать произведённый товар и превратить вырученные от этой продажи деньги обратно в капитал. Далее: распадение прибавочной стоимости на различные доли ничуть не изменяет её природы и тех необходимых условий, при которых она становится элементом накопления. В какой бы пропорции ни распадалась прибавочная стоимость на часть, удерживаемую самим капиталистическим производителем, и часть, которую он уступает другим, во всяком случае в первую очередь прибавочная стоимость присваивается её капиталистическим производителем. Следовательно, то, что мы предполагаем при нашем изображении процесса накопления, то происходит и в действительности. С другой стороны, расщепление прибавочной стоимости и посредствующее движение обращения затемняют простую основную форму процесса накопления. Поэтому анализ последнего в его чистом виде требует предварительного отвлечения от всех явлений, скрывающих внутреннюю игру его механизма.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ПРОСТОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО
Какова бы ни была общественная форма процесса производства, он во всяком случае должен быть непрерывным, т. е. должен периодически всё снова и снова проходить одни и те же стадии. Так же, как общество не может перестать потреблять, так не может оно и перестать производить. Поэтому всякий общественный процесс производства, рассматриваемый в постоянной связи и в непрерывном потоке своего возобновления, является в то же время процессом воспроизводства.
Условия производства суть в то же время условия воспроизводства. Ни одно общество не может непрерывно производить, т. е. воспроизводить, не превращая непрерывно известной части своего продукта снова в средства производства, или элементы нового производства. При прочих равных условиях оно может воспроизводить своё богатство или поддерживать его на неизменном уровне лишь в том случае, если средства производства, т. е. средства труда, сырые и вспомогательные материалы в натуральном выражении, потреблённые в течение, например, года, замещаются равным количеством новых экземпляров того же рода; это последнее отделяется от годовой массы продуктов и снова входит в процесс производства. Итак, определённое количество годового продукта принадлежит производству. Предназначенная с самого начала для производственного потребления, эта часть существует в своём большинстве в таких натуральных формах, которые уже сами по себе исключают индивидуальное потребление.
Если производство имеет капиталистическую форму, то и воспроизводство имеет такую же форму. Подобно тому, как процесс труда при капиталистическом способе производства выступает только как средство для процесса возрастания стоимости, точно так же воспроизводство выступает только как средство воспроизвести авансированную стоимость в качестве капитала, т. е. в качестве самовозрастающей стоимости. Характерная экономическая роль капиталиста присуща данному лицу лишь потому, что деньги его непрерывно функционируют как капитал. Если, например, авансированная денежная сумма в 100 ф. ст. превратилась в этом году в капитал и произвела прибавочную стоимость в 20 ф. ст., то она должна повторить ту же самую операцию в следующем году и т. д. Как периодическое приращение капитальной стоимости, или периодический плод функционирующего капитала, прибавочная стоимость приобретает форму дохода, возникающего из капитала.[1012 - «Богатые, потребляющие продукты труда других, получают эти последние лишь при помощи акта обмена» (купли товаров). «Поэтому кажется, что их запасной фонд должен быстро иссякнуть… Но в современном общественном строе богатство получило силу воспроизводиться посредством чужого труда… Богатство, подобно труду и при помощи труда, каждый год доставляет плод, который можно уничтожить в течение года, не делая беднее владельца богатства. Этот плод есть доход, возникающий из капитала» (Sismondi. «Nouveaux Principes d'Еconomie Politique», t. I, P. 81, 82).]
Если доход этот служит капиталисту лишь фондом потребления, если он так же периодически потребляется, как и добывается, то при прочих равных условиях мы имеем перед собой простое воспроизводство. И хотя оно есть простое повторение процесса производства в неизменном масштабе, тем не менее эта простая повторяемость или непрерывность придаёт процессу новые черты, или, скорее, устраняет те, которые кажутся характерными для него только как для единичного акта.
Исходным пунктом процесса производства является купля рабочей силы на определённое время, и этот исходный пункт постоянно возобновляется, как только истекает срок, на который был куплен труд, и вместе с тем истекает и определённый период производства, например неделя, месяц и т. д. Однако рабочий оплачивается лишь после того, как его рабочая сила проявила своё действие и реализовала в товарах как свою стоимость, так и прибавочную стоимость. Следовательно, рабочий произвёл как прибавочную стоимость, которую мы пока рассматриваем только как потребительный фонд капиталиста, так и фонд для своей собственной оплаты, т. е. переменный капитал, – произвёл раньше, чем этот последний притекает к нему обратно в виде заработной платы, и он имеет работу лишь до тех пор, пока он непрерывно воспроизводит его. Отсюда упомянутая нами в шестнадцатой главе под цифрой II формула экономистов, изображающая заработную плату как долю в самом продукте.[1013 - «Заработную плату… точно так же, как и прибыль, следует рассматривать действительно как долю готового продукта» (G. Ramsay, цит. соч., стр. 142). «Доля продукта, причитающаяся рабочему в форме заработной платы» (James Mill. «Еlеments d'Еconomie Politique», traduits de l'anglais par Parisot. Paris, 1823, p. 34).] Это та часть продукта, непрерывно воспроизводимого самим рабочим, которая непрерывно притекает к нему обратно в форме заработной платы. Конечно, капиталист выплачивает ему эту товарную стоимость деньгами. Но эти деньги есть лишь превращённая форма продукта труда. В то время как рабочий превращает часть средств производства в продукт, часть его прежнего продукта превращается обратно в деньги. Его труд в течение прошлой недели или последнего полугодия – вот из какого источника оплачивается его сегодняшний труд или труд наступающего полугодия. Иллюзия, создаваемая денежной формой, тотчас же исчезает, как только мы вместо отдельного капиталиста и отдельного рабочего станем рассматривать класс капиталистов и класс рабочих. В денежной форме класс капиталистов постоянно выдаёт рабочему классу чеки на получение известной части продукта, произведённого рабочими и присвоенного капиталистами. Эти чеки рабочий столь же регулярно отдаёт назад классу капиталистов, получая взамен причитающуюся ему часть своего собственного продукта. Товарная форма продукта и денежная форма товара маскируют истинный характер этого процесса.
Итак, переменный капитал есть лишь особая историческая форма проявления фонда жизненных средств, или рабочего фонда, который необходим работнику для поддержания и воспроизводства его жизни и который при всех системах общественного производства он сам постоянно должен производить и воспроизводить. Рабочий фонд постоянно притекает к рабочему в форме средств платежа за его труд лишь потому, что собственный продукт рабочего постоянно удаляется от него в форме капитала. Однако эта форма проявления рабочего фонда ничуть не изменяет того факта, что капиталист авансирует рабочему овеществлённый труд самого рабочего.[1014 - «Когда капитал употребляется на авансирование рабочим их заработной платы, он ничего не прибавляет к фонду, предназначенному для поддержания труда» (Кейзнов в примечании к его изданию работы Мальтуса «Definitions in Political Economy». London, 1853, p. 22).] Возьмём барщинного крестьянина. Он работает при помощи собственных средств производства на собственном поле, скажем, 3 дня в неделю. В течение остальных 3 дней недели он выполняет барщинную работу на господском поле. Он постоянно воспроизводит свой собственный рабочий фонд, и этот последний никогда не принимает по отношению к нему формы средства платежа, авансированного в обмен на его труд третьим лицом. Зато и его неоплаченный принудительный труд никогда не получает формы добровольного и оплаченного труда. Но если помещик присвоит себе поле, рабочий скот, семена, одним словом – средства производства барщинного крестьянина, то отныне этому последнему придётся продавать свою рабочую силу помещику. При прочих равных условиях он и теперь будет работать, как и прежде, 6 дней в неделю – 3 дня на себя, 3 дня на бывшего помещика, превратившегося теперь в нанимателя. И теперь, как и раньше, он будет употреблять средства производства как таковые, перенося их стоимость на продукт. И теперь, как и раньше, определённая часть продукта будет входить в процесс воспроизводства. Но подобно тому, как барщинный труд принимает при этом форму наёмного труда, точно так же и рабочий фонд, производимый и воспроизводимый теперь, как и раньше, самим крестьянином, принимает форму капитала, авансируемого крестьянину бывшим помещиком. Буржуазный экономист, ограниченный мозг которого не в состоянии отличать форму проявления от того, что в ней проявляется, закрывает глаза на тот факт, что даже в настоящее время на всём земном шаре рабочий фонд лишь в виде исключения выступает в форме капитала.[1015 - «Средства существования рабочих авансируются им капиталистами менее чем на одной четверти поверхности земного шара» (Richard Jones. «Text-book of Lectures on the Political Economy of Nations». Hertford, 1852, p. 36).]
Как бы то ни было, переменный капитал утрачивает характер стоимости, авансированной из собственного фонда капиталиста,[1016 - «Хотя хозяин авансирует мануфактурному рабочему его заработную плату, последний в действительности не стоит ему никаких издержек, так как стоимость этой заработной платы обычно возвращается ему вместе с прибылью в увеличенной стоимости того предмета, к которому был приложен труд рабочего» (A. Smith, цит. соч., кн. II, гл. III, стр. 311).] лишь в том случае, если мы рассматриваем капиталистический процесс производства в непрерывном потоке его возобновления. Но где-нибудь и когда-нибудь этот процесс должен был начаться. Следовательно, исходя из той точки зрения, на которой мы стояли до сих пор, представляется вероятным, что капиталист в известный момент стал владельцем денег посредством какого-то первоначального накопления, независимого от чужого неоплаченного труда, и благодаря этому смог выступить на рынке в качестве покупателя рабочей силы. Между тем уже простая непрерывность капиталистического процесса производства, или простое воспроизводство, вызывает и другие своеобразные изменения, касающиеся не только переменной части капитала, но и всего капитала в целом.
Если прибавочная стоимость, создаваемая периодически, например, ежегодно, капиталом в 1 000 ф. ст., составляет 200 ф. ст. и если эта прибавочная стоимость потребляется без остатка в течение года, то ясно, что после повторения этого процесса в течение пяти лет сумма потреблённой прибавочной стоимости будет равна 200?5, или первоначально авансированной капитальной стоимости в 1 000 фунтов стерлингов. Если бы годовая прибавочная стоимость потреблялась лишь частично, например лишь наполовину, то указанный результат получился бы лишь после повторения производственного процесса в течение десяти лет, потому что 100?10 = 1 000. Вообще авансированная капитальная стоимость, делённая на потребляемую ежегодно прибавочную стоимость, даёт число лет, или число периодов воспроизводства, по истечении которых первоначально авансированный капитал потребляется капиталистом и, следовательно, исчезает. Представление капиталиста, будто он потребляет лишь продукт чужого неоплаченного труда, прибавочную стоимость, оставляя неприкосновенной первоначальную капитальную стоимость, абсолютно не может изменить этого факта. По истечении известного числа лет принадлежащая ему капитальная стоимость равна сумме прибавочной стоимости, присвоенной им без эквивалента в течение того же самого числа лет, а потреблённая им сумма стоимости равна первоначальной капитальной стоимости. Правда, в его руках сохраняется капитал, величина которого не изменилась, причём часть этого капитала, здания, машины и т. д., уже была налицо, когда он приступил к своему предприятию. Но здесь дело идёт о стоимости капитала, а не о его материальных составных частях. Если кто-нибудь расточил всё своё имущество, наделав долгов на сумму, равную стоимости этого имущества, то всё его имущество представляет как раз только общую сумму его долгов. Равным образом, если капиталист потребил эквивалент своего авансированного капитала, то стоимость этого капитала представляет лишь общую сумму безвозмездно присвоенной им прибавочной стоимости. Ни одного атома стоимости старого капитала уже не существует.
Итак, совершенно независимо от всякого накопления, уже простое повторение производственного процесса, или простое воспроизводство, неизбежно превращает по истечении более или менее продолжительного периода всякий капитал в накопленный капитал, или капитализированную прибавочную стоимость. Если даже капитал при своём вступлении в процесс производства был лично заработанной собственностью лица, которое его применяет, всё же рано или поздно он становится стоимостью, присвоенной без всякого эквивалента, материализацией – в денежной или иной форме – чужого неоплаченного труда.
Как мы видели в четвёртой главе, для того чтобы превратить деньги в капитал, недостаточно наличия товарного производства и товарного обращения. Для этого необходимо, прежде всего, чтобы в качестве покупателя и продавца противостояли друг другу с одной стороны владелец стоимости или денег, с другой стороны – владелец субстанции, образующей стоимость, здесь – владелец средств производства и жизненных средств, там – владелец одной только рабочей силы. Следовательно, отделение продукта труда от самого труда, отделение объективных условий труда от субъективного фактора – рабочей силы – было фактически данной основой, исходным пунктом капиталистического процесса производства.
Но что первоначально было исходным пунктом, то впоследствии благодаря простой непрерывности процесса, благодаря простому воспроизводству, создаётся всё снова и снова и увековечивается как собственный результат капиталистического производства. С одной стороны, процесс производства постоянно превращает вещественное богатство в капитал, в средства увеличения стоимости для капиталиста и в средства потребления для него. С другой стороны, рабочий постоянно выходит из этого процесса в том же виде, в каком он вступил в него: как личный источник богатства, но лишённый всяких средств для того, чтобы осуществить это богатство для себя самого. Так как до его вступления в процесс его собственный труд был отчуждён от него, присвоен капиталистом и включён в состав капитала, то в ходе процесса этот труд постоянно овеществляется в чужом продукте. Так как процесс производства есть в то же время процесс потребления рабочей силы капиталистом, то продукт рабочего непрерывно превращается не только в товар, но и в капитал, – в стоимость, которая высасывает силу, создающую стоимость, в жизненные средства, которые покупают людей, в средства производства, которые применяют производителей.[1017 - «В этом особенно замечательное свойство производительного потребления. Потребляемое производительно есть капитал и становится капиталом через потребление» (James Mill. «Еlеments d'Еconomie Politique», p. 242). Но Джемс Милль так и не выяснил, в чём состоит это «особенно замечательное свойство».] Таким образом, рабочий сам постоянно производит объективное богатство как капитал, как чуждую ему, господствующую над ним и эксплуатирующую его силу, а капиталист столь же постоянно производит рабочую силу как субъективный источник богатства, отделённый от средств её собственного овеществления и осуществления, абстрактный, существующий лишь в самом организме рабочего, – короче говоря, производит рабочего как наёмного рабочего.[1018 - «Это правда, конечно, что впервые введённая мануфактура даёт работу многим беднякам; но последние не перестают быть таковыми, и дальнейшее введение мануфактурных предприятий делает бедняками многих других» («Reasons for a limited Exportation of Wool». London, 1677, p. 19). «Абсурдно утверждение фермера, будто он содержит бедных. На самом деле бедные содержатся в нищете» («Reasons for the late Increase of the Poor-Rates: or a comparative View of the Prices of Labour and Provisions». London, 1777, p. 31).] Это постоянное воспроизводство или увековечение рабочего есть conditio sine qua non [непременное условие] капиталистического производства.
Потребление рабочего бывает двоякого рода. В самом производстве он потребляет своим трудом средства производства и превращает их в продукты более высокой стоимости, чем стоимость авансированного капитала. Это – его производственное потребление. Это – в то же время потребление его рабочей силы капиталистом, который купил её. С другой стороны, рабочий расходует деньги, уплаченные ему при купле его рабочей силы, на приобретение жизненных средств. Это – его индивидуальное потребление. Следовательно, производственное и индивидуальное потребление рабочего совершенно различны между собой. В первом он функционирует как движущая сила капитала и принадлежит капиталисту; во втором он принадлежит самому себе и выполняет жизненные функции вне производственного процесса. Результатом первого является существование капиталиста, результатом второго – существование самого рабочего.
При рассмотрении рабочего дня и пр. попутно выяснилось, что зачастую рабочий вынужден превращать своё индивидуальное потребление в чисто случайный эпизод производственного процесса. В этом случае он поглощает жизненные средства лишь для того, чтобы держать «в ходу» свою рабочую силу, как паровая машина – уголь и воду, как колесо – смазочные масла. Здесь его средства потребления являются просто средствами потребления одного из средств производства, его индивидуальное потребление является непосредственно производственным потреблением. Однако это представляется злоупотреблением, не связанным с сущностью капиталистического процесса производства.[1019 - Росси не столь напыщенно декламировал бы по этому поводу, если бы он действительно проник в тайну «производственного потребления».]
Иначе выглядит дело, если мы рассматриваем не отдельного капиталиста и не отдельного рабочего, а класс капиталистов и класс рабочих, не единичные процессы производства, а весь капиталистический процесс в его потоке и в его общественном объёме. Когда капиталист превращает в рабочую силу часть своего капитала, он тем самым увеличивает весь свой капитал. Он одним ударом убивает двух зайцев. Он извлекает прибыль не только из того, что он получает от рабочего, но и из того, что он даёт рабочему. Капитал, отчуждённый в обмен на рабочую силу, превращается в жизненные средства, потребление которых служит для воспроизводства мускулов, нервов, костей, мозга рабочих, уже имеющихся налицо, и для производства новых рабочих. Следовательно, индивидуальное потребление рабочего класса в его абсолютно необходимых границах есть лишь обратное превращение жизненных средств, отчуждённых капиталом в обмен на рабочую силу, в рабочую силу, пригодную для новой эксплуатации со стороны капитала. Это – производство и воспроизводство необходимейшего для капиталиста средства производства – самого рабочего. Таким образом, индивидуальное потребление рабочего составляет момент в производстве и воспроизводстве капитала независимо от того, совершается ли оно внутри или вне мастерской, фабрики и т. д., внутри или вне процесса труда, подобно тому, как таким же моментом является чистка машины независимо от того, производится ли она во время процесса труда или во время определённых перерывов последнего. Дело нисколько не изменяется от того, что рабочий осуществляет своё индивидуальное потребление ради самого себя, а не ради капиталиста. Ведь и потребление рабочим скотом не перестаёт быть необходимым моментом процесса производства оттого, что скот сам находит удовольствие в том, что он ест. Постоянное сохранение и воспроизводство рабочего класса остаётся постоянным условием воспроизводства капитала. Выполнение этого условия капиталист может спокойно предоставить самим рабочим, полагаясь на их инстинкт самосохранения и размножения. Он заботится лишь о том, чтобы их индивидуальное потребление ограничивалось по возможности самым необходимым, и, как небо от земли, далёк от южноамериканской грубости, с которой рабочих принуждают есть более питательную пищу вместо менее питательной.[1020 - «Рабочие рудников Южной Америки, ежедневная работа которых (быть может, самая тяжёлая в мире) состоит в том, чтобы вытаскивать на своих плечах на поверхность земли груз руды в 180–200 фунтов из глубины в 450 футов, питаются лишь хлебом и бобами; они предпочли бы питаться одним хлебом, но их господа обращаются с ними, как с лошадьми: найдя, что на одном хлебе они не могут работать так интенсивно, они принуждают их есть бобы; бобы значительно богаче фосфором, чем хлеб» (Liebig. «Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie», 7. Aufl., 1862, 1. Theil, S. 194, примечание).]
Поэтому капиталист и его идеолог, экономист, рассматривают как производительное потребление лишь ту часть индивидуального потребления рабочего, которая необходима для увековечения рабочего класса, которая действительно должна иметь место, чтобы капитал мог потреблять рабочую силу; а всё, что рабочий потребляет сверх того, ради своего собственного удовольствия, есть непроизводительное потребление.[1021 - James Mill. «Еlеments d'Еconomie Politique», p. 238 sqq.] Если бы накопление капитала вызвало повышение заработной платы и, следовательно, возрастание количества средств потребления рабочего, не приводя к увеличенному потреблению рабочей силы капиталом, то добавочный капитал был бы потреблён непроизводительно.[1022 - «Если бы цена труда поднялась так высоко, что несмотря на увеличение капитала, нельзя было бы применить больше труда, то я сказал бы, что такое увеличение капитала потребляется непроизводительно» (Ricardo. «Principles of Political Economy», 3rd ed. London, 1821, p. 163).] В самом деле, индивидуальное потребление рабочего непроизводительно для него самого, так как оно воспроизводит лишь индивидуума с его потребностями; оно производительно для капиталиста и для государства, так как оно есть производство силы, создающей чужое богатство.[1023 - «Единственно производительным потреблением в собственном смысле этого слова является только потребление или разрушение богатства» (Мальтус имеет в виду потребление средств производства) «капиталистом c целью воспроизводства… Рабочий… является производительным потребителем для лица, применяющего его, и для государства, но, строго говоря, не для самого себя» (Malthus. «Definitions in Political Economy». London, 1853, p. 30).]