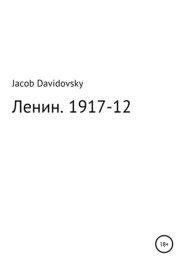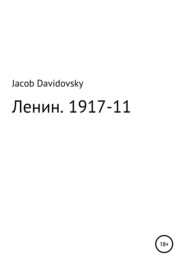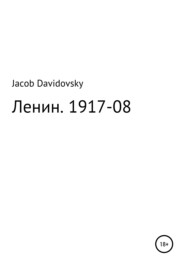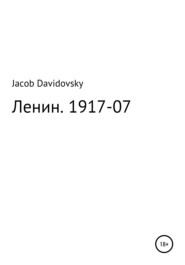По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ленин. 1917-05
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Лев Давидович, – Серебровский был явно расстроен, – Ну, простите вы меня, ради бога, за горячность. Да бог с ними, с большевиками и правительством. Потом поживёте, осмотритесь, да и сами поймёте. Оставайтесь! Всё же так прекрасно начиналось, ей-богу, – чуть не плакал Серебровский. Его жена даже встала и умоляюще сложила руки.
– Нет, извините, – тон Троцкого стал мягче, но он был непреклонен, – с Лениным я знаком лично, отношусь к нему с уважением и не могу оставаться в доме, где его называют шпионом.
Кроме того, я сторонник как можно скорейшего заключения мира. Безо всяких территориальных изменений. Для России или кого бы то ни было. Сторонник мира без аннексий и контрибуций. Даже если случится чудо и Лондон позволит России взять Босфор с Дарданеллами, на пользу это не пойдёт.
Новых земель России не нужно – со своими бы разобраться. Засим позвольте откланяться. Поселиться у вас считаю невозможным, – он поклонился.
– Ох, как же жаль!, – Серебровский был искренне расстроен, – Лев Давидович, поверьте, что бы там я не говорил о Ленине, лично к вам отношусь с глубочайшим уважением и любовью. Вы, конечно, сейчас уйдёте, я знаю, что вас не остановить, но очень прошу. Не забывайте, захаживайте запросто. К вашей супруге и детям это, разумеется, тоже относится.
– Там видно будет, – тон Троцкого стал мягче, – Вы поймите, здесь дело принципа. Не можем мы у вас остановиться, уже сказал – почему. Но поверьте, лично вас я искренне уважаю … помню слесаря Логинова. Возможно, ещё свидимся, и вы перемените своё мнение. Эх, как жаль, что так получилось!
Они шли обратно, в нищенскую обстановку “Киевских Номеров”. Троцкий был задумчив и, пожалуй, невесел. Старший сын Лев, видя такое, решил как-то утешить отца, подобрался ближе и взял того за руку.
– Папа, – начал он, – не расстраивайся. Я понимаю, ты не мог иначе. Поверь, пап, мы гордимся твоей принципиальностью. Я тоже всегда буду так поступать.
Лев Давидович по-доброму усмехнулся и обнял сына за плечи.
Забегая вперёд, сообщим, что одиннадцатилетнему Льву-младшему через несколько дней предоставилась возможность подтвердить свои слова – и он доказал, что их на ветер не бросает.
Серебровский, несмотря на расхождения во взглядах, действительно питал к Троцкому искреннюю приязнь, проистекавшую ещё из той юношеской глубокой привязанности, родившейся в 1905-м году.
Через нсеколько дней он снова посетил скромную комнату в “Киевских Номерах”. Льва Давидовича не было дома, Наташа готовила ужин, дети были во дворе. Серебровский пригласил Наталью с детьми на чай с вареньем. Та отказалась, мотивировав это тем, что Лев Давидович, вернувшись и не застав их дома, будет волноваться, но согласилась отпустить детей – пускай лишний раз хотя бы угостятся вареньем.
Дети, сидя на мягких стульях за широким столом, чинно угощались. Серебровский рассказывал о своём знакомстве с Троцким в 1905-м, о своей карьере инженера. Дети слушали, иногда переспрашивали. Мало-помалу разговор перешёл на жизнь рабочих, на нынешнее время, и Лев, недавно слушавший на митинге Ленина, неосторожно затронул тему его выступления.
– Да ведь он немецкий шпион, – неожиданно вновь сорвался Серебровский и, спохватившись, картинно, как бы в панике, прикрыл рот рукой, пытаясь обратить нечаянно сорвавшиеся слова в шутку.
Не удалось. Дети порой бывают ещё принципиальнее родителей.
– Ну уж это – свинство, – послышалось с места, где сидел Лев-младший. Впрочем, мальчик тут же взял себя в руки, поблагодарил за угощение и сообщил, что им пора.
Хозяин их не удерживал, видимо, осознав, что и через детей дружеских отношений с Троцким восстановить не удастся.
Так это знакомство и закончилось, едва возобновившись.
В отличии от Троцкого, Ленину повезло в смысле жилищных условий куда больше. Они с Надеждой Константиновной поселились в квартире сестры Владимира Ильича Анны Ильиничны Ульяновой, по мужу Елизаровой.
Муж Анны Ильиничны был фигурой примечательной. Марк Тимофеевич Елизаров начал участвовать в революционном движении примерно в то же время, когда и Владимир Ульянов. Дважды арестовывался и высылался в Сызрань.
Однако после арестов и высылок остепенился и сумел сделать карьеру. Марк Тимофеевич являлся с 1916-го года директором-распорядителем Петербургского пароходства “По Волге”. Видимо, дело было в том, что ещё до своих арестов и высылок он успел закончить в 1886-м году физико-математический факультет Петербургского университета.
Ну а многие работодатели в те годы не придавали большого значения революционной деятельности своих служащих- лишь бы на работе не отражалось. Тем более, должность была не государственная. Поэтому Елизаров и жил с женой и приёмным сыном в просторной четырёхкомнатной директорской квартире.
Но революционером по убеждениям Марк Тимофеевич остался и охотно согласился принять брата сестры – вождя большевиков с супругой. Будучи на семь лет старше Ленина, он, тем не менее, относился к тому с большим уважением и сейчас, когда вождь размышлял, старался без нужды не докучать. Что было великолепно для вечно занятого Владимира Ильича.
Вот и сейчас Ленин сидел в кресле, уже ставшим его любимым местом для размышлений в этой гостеприимной квартире и в уме выстраивал основные мысли, которые следовало огласить на начавшемся 4 мая в Петрограде Всероссийском Съезде Крестьянских Советов.
Да, конечно, – думал Ленин, – нам, по большому счёту, на крестьянство наплевать, ибо в Петрограде его представителей нет, а вопросы власти решаются именно здесь.
Но не следует забывать, что солдаты-то как раз в Питере есть, а это в большинстве своём бывшие крестьяне. Да, служба в армии их сильно изменила, но интерес к судьбе деревни остался. Сейчас, в военное время, в российской армии служат около четырнадцати миллионов, соответственно, точно больше двенадцати миллионов – бывшие крестьяне. И у каждого ружьё! Не фунт изюму!
Поэтому нам, большевикам, нужно как-то проявить свой интерес к крестьянству. Готовность облегчить его положения. Всё равно это только слова. Пока мы, большевики, не у власти, никто исполнения обещаний от нас, естественно, не потребует. Ну а когда мы власть возьмём … ну, там и посмотрим.
Сейчас крестьянство – вотчина эсеров, которые в числе наших основных соперников. Они, эсеры – наследники народников, потому в деревне их авторитет очень высок. Чем можно этот авторитет поколебать … или лучше повысить наш авторитет? Ну, конечно, нужно оказаться радикальней в основном вопросе, который волнует каждого мужика в первую очередь. В вопросе о земле.
Так. У эсеров в программе записано требование передачи помещичьих земель в руки крестьян через крестьянские комитеты. Ну и прекрасно. И мы внесём в свою, большевистскую программу то же самое. Для нас лично от этого ничего не изменится. Не свою землю раздаём, помещичью. И не сегодня.
Да, это хорошо … причём очевидно. Странно даже, что не пришло в голову раньше. Сейчас же составить Открытое Письмо к Съезду этих самых Крестьянских Советов, завтра на очередном заседании ЦК его протолкнуть – и уже как мнение всей партии огласить на Съезде.
Ладно. Хорошо. Но недостаточно. Мы просто окажемся на одной с эсерами позиции по земельному вопросу, но те останутся в деревне властителями дум. Поскольку крестьяне их знают давно. И верят.
Нужно изобрести что-нибудь более радикальное. Чтобы оказаться в вопросе о земле бОльшими радетелями за мужика, чем эсеры. Ладно, поразмыслим.
7 мая 1917 года
В этот день Ленин обратился с открытым письмом к делегатам Всероссийского Съезда Крестьянских Советов, в котором изложил политику партии большевиков по вопросам о земле, о войне и об устройстве государства. Насчёт войны и устройства государства делегаты съезда ничего нового не узнали. Позиция большевиков была давно известна – “Империалистическая война должна быть немедленно прекращена”, “мир без аннексий и контрибуций”, “вся власть Советам”.
Но вот по вопросу о земле Открытое Письмо несколько вышибло почву из под ног эсеровской партии. Программа большевиков теперь повторяла, собственно, аграрную часть программы эсеров – “передача земли в собственность крестьянам через крестьянские комитеты”.
10 мая 1917 года.
Судьба благоволила планам Ленина перетянуть Троцкого на свою сторону. Уже через шесть дней после приезда того между ними остоялась встреча. Причём по инициативе Троцкого – уже как лидера небольшой фракции. Фракции “межрайонцев”.
Термин “межрайонцы” появился ещё на том памятном Втором Съезде РСДРП в 1903-м году, где партия раскололась на две части – большевиков и меньшевиков. Странно, что этот раскол вызвал такие страсти, бешеные дискуссии, ожесточённые споры, в ходе которых неоднократно доходило до оскорблений.
Основная разница в платформах новоиспечённых партий заключалась всего лишь в Пункте Первом Устава, где определялось – кого считать членом партии. Ленин требовал, чтобы членом партии мог считаться только тот, кто принимает платформу партии, платит взносы и главное – подчиняется партийному руководству.
Мартов, лидер меньшевиков, считал, что членом партии может считаться к тому же любой, кто платформу партии просто поддерживает, хотя бы в главном. О подчинению руководству этих самых поддерживающих речь, разумеется, не шла.
На самом деле эта разница была ещё менее принципиальна, ибо поддерживающие, по мысли Мартова, права решающего голоса всё равно не имели – только совещательный.
Тем не менее даже такое различие в подходах привело к тому, что вместо одной партии появились две, которые пошли далее уже разными путями, и различие в их точках зрения по конкретным вопросам позже бывало зачастую действительно принципиальным
Но на Втором Съезде, различие взглядов ещё являлось незначительным. Поэтому небольшая часть делегатов раскола просто не приняла, оставшись таким образом между большевиками и меньшевиками и призывая тех и других одуматься и остаться единым целым.
Этих сторонников единства назвали “межрайонцами”.
Небольшая их фракция была и в Петроградском Совете.
Ещё до приезда Троцкого фракция начала склоняться к идее об объединении с большевиками. Дело в том, что их мнение по вопросу об отношении к войне и соответственно к Временному Правительству, эту войну продолжавшему, резко отличалось от мнения меньшевистской фракции в Совете. Но полностью совпадало с большевистской!
Они были просто последовательны. На Втором Съезде, в момент раскола, разумеется, речь об этих вопросах не шла, так как до начала войны тогда оставалось ещё четырнадцать лет, а до появления Временного Правительства – и того больше.
Но сейчас исторический лидер меньшевиков Юлий Мартов, до сих пор находящийся за границей, занял резко антивоенную позицию и соответственно был против любого сотрудничества с продолжающим войну правительством. О чём и написал в Петроградский Совет письмо, оглашённое на одном из заседаний.
Как мы помним, лидеры меньшевистской фракции придерживались иной точки зрения. Они фактически спасли наряду с эсерами правительство от свержения во время Апрельского Кризиса и даже делегировали в его состав своих представителей.
Поэтому в глазах межрайонцев лидеры меньшевиков были изменниками.