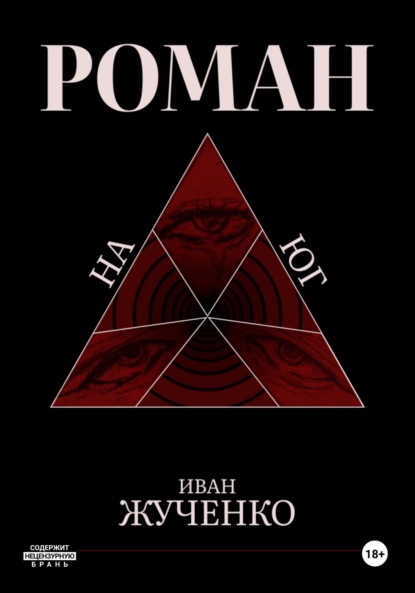По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На юг
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да никогда они меня не заменят, – сказал Иммерман, допивая свой виски.
Он встал, совсем забыв про мнимое приличие и не застегнув пуговицу. Фридрих уже открыл дверь перед публицистом в ожидании похвалы. Старик направился к выходу, держа в одной руке бутылку, а во второй – талию Анджелы, играя мерзкими пальцами по её талии как на пианино.
– Знаете, господин сенатор, статья будет с заголовком: «Потрошитель Яммера: городская власть бездействует». Ждите завтра утренний выпуск с большим заголовком и фото пострадавшей, – сказал Иммерман, удаляясь из помещения «Рыцарской трапезы».
Иммерман покинул зал. Освальд вздохнул с облегчением, а потом сразу же его накрыла зевота. Зевоту оборвал голодный взгляд Милы: то ли она смотрела так на Освальда, то ли на свой салат из морепродуктов – было непонятно.
Освальд выпил черный чай залпом, и на душе его стало чуть потеплее. В голову нагрянуло осознание, что вскоре на работу, и он немного опаздывает.
Сенатора начала накрывать какая-то странная паническая атака. Он начал кашлять изо всех сил, и через кашель пробирался смех. Глаза его немного пожелтели, как старые костяные пуговицы, а лицо еще никогда не было таким впавшим от усталости.
– Мила, рад был провести с тобой этот вечер, ночь и утро, но мне действительно очень надо на работу. Где бы я смог найти тебя? – спросил он.
– Отель недалеко от Сената, – ответила ему Мила, только начавшая есть свой салат.
– Тот, что с башней в виде часов? – спросил сенатор.
– Именно, – сухо ответила Мила.
– Я тебя найду. Хорошего дня, – сказал Освальд и выбежал быстрой походкой на улицу.
Вокруг проезжали экипажи такси, и все люди шли на работу. Кто-то разбирал снег после вечерней снежной бури, а кто-то шептался о новости про очередное убийство. Освальд махнул рукой и взял себе экипаж такси до здания Сената.
По пути Освальд часто вспоминал про тело проститутки, которое видел ночью. Его голова впечаталась в бордовое сидение кареты такси, а тело стало настолько расслабленным и одурманенным какими-то странными чувствами, что колеса кареты перестали отстукивать брусчатку, и движение стало похоже на прокатку утюга по рубашке. Сенатор на один маленький единственный миг подумал, небрежно или добросовестно он попрощался с Милой, как его мысли стукнулись о грязные нарративы дел в Сенате. Опять писать законопроект под новое управление налоговой и разбираться с жалобами горожан по трубопроводу… Трубопровод, точно… Сейчас почти зима, и уже снег лежит на улице. Скоро начнутся перебои с отоплением, и город накроет дым каминов и печей. Надо бы заложить под это еще финансовых средств из городского бюджета. Главное, чтобы финансисты и Блюхер дали согласие, и Монике надо это не забыть сказать, – подумал про себя Освальд.
– Мы прибыли, герр сенатор, – прервал тихое раздумье Освальда кучер, стуча рукой по крыше такси.
Сенатор расплатился с кучером и поднялся по массивным ступеням. Они никогда не казались ему настолько массивными, непроходимыми. Что-то все-таки было античное в этом здании, хоть до стиля античности ему было далеко. Власть всегда терниста, и об этом стоит помнить и учитывать.
Освальд промок от пота и легких капель моросящего дождя. Вы же еще не забыли, что он избавился от своей верхней одежды?
Блюхер уже ждал его, блестя у входа своими круглыми пенсне на золотой цепочке. Толстая пачка бумаги была готова на рассмотрение или на полный протест со стороны финансового комитета города. Понятно было одно: ждал Блюхер с самого открытия Сената, нервно отбивая мраморный пол железной вставкой на туфле. Цок-цок-цок проносился по залу, и нехотя люди оборачивались на Блюхера, как на обитателя психдиспансера. Честно говоря, пол Сената следовало бы туда отправить. Освальд сверил свои часы с часами в холле: он опоздал на 40 минут. Рядом с большими часами на втором этаже ждала Моника, но Освальд сделал вид, что не заметил ее.
Блюхер, не сильно скрывая свое долгое ожидание, начал торопить события и бежать впереди паровоза. Он протянул бумаги Освальду с формулировкой:
– Это ваши последние законопроекты. Их нужно пересмотреть и отправить на доработку. У финансового комитета нет на это средств, – сказал Блюхер.
– Для такой новости могли бы отправить ко мне кого-то пониже рангом, – заметил Освальд.
– Я жду вас с восьми утра. Мы должны работать как часы, как часы без опозданий, как единый механизм, понимаете? – Блюхер.
– И как это относится к тому, что вы мне лично это преподносите вместо ваших подчиненных? – Освальд.
– В том, что я отношусь к вам с уважением, и что эти законы нужно доработать вовремя и без опозданий. Власть не должна останавливаться, если вы опаздываете. Часы не должны отставать, понимаете?
– Часы отстают на 46 секунд.– Сказал Освальд Блюхеру, сделав вид, что не видит рядом с ними Монику.
– Почему это? И почему именно на 46 секунд?
– Часовщик ровно столько времени курит одну сигарету, и курит он каждый час. Он переводит их, подкручивает, но 59 минут из 60 каждый час они отстают именно на 46 секунд, когда он курит и останавливает механизм, и минутная стрелка замедляется, – сказал Освальд, забрав несколько помеченных томов бумаги с законопроектами по бюджету.
Моника всё так же стояла у часов напротив коридора с кабинетом сенатора и кабинетом главы собрания. Моника сменила наряд, что сразу бросилось в глаза: вместо сдержанности и компромиссов, что было обычным делом для любого официального или политического здания Нижней Саксонии, наружу вывелось что-то ярко вульгарное. Черные брюки из плотного шелка и белую, всегда выглаженную угольным утюгом рубашку заменило платье с вырезом до таза со стороны правой ноги. Низ платья и рукава от плечей до запястья украшали кружева, показывающие всю красоту и нетронутость тела Моники. На декольте был глубокий вырез, ярко подчеркивающий грудь третьего размера. А лицо, ах, её милое лицо. Теперь оно в темно-красной помаде, а щеки в румянах. В руках совсем не было бумажных дел, и она не прыгала с отчётами о выполненных заданиях перед боссом. Не хотела и забрать бумаги у слегка промокшего Освальда. Сутки, сутки Освальда не было в Сенате, а как много изменилось: убийство, ночь с Милой, теперь Моника цирк устроила.
«Этот ноябрь меня убьет», – подумал Освальд и увидел легко шатнувшийся листок бумаги с парой предложений. Он сразу понял, что к чему, и не стал тянуть с вопросом.
– Подписать? По собственному? – сказал он.
– Да, спасибо, герр сенатор, – ответила ему Моника.
Освальд достал перьевую ручку, подаренную мэром. Ей он обычно подписывал что-то чрезвычайно важное, и Моника знала об этом. Сделал росчерк пера и собирался вернуть лист обратно девушке, но сжал его и остановился в мыслях.
– Один вопрос: куда ты теперь пойдёшь? – сказал Освальд Монике, впервые поинтересовавшись о её делах и, наверное, в последний раз.
– Я пойду на прослушивание в оперу, герр сенатор.
– Что ж, удачи в достижении вершин на сцене.
ГЛАВА 4
Конрад Штайнер и Отто Гендевальд поздним вечером обедали в опустевшей столовой полицейского участка. Почему только обедали? Потому что были завалены томами дела на потрошителя Яммера.
Конрад заказал себе тарелку солянки и куриный стейк со спаржей. Своему меню и относительно нейтральной позиции к углеводам он никогда не изменял. Пухляш Отто набрал себе жареного картофеля и все баварские сосиски, что остались к вечеру, так что на одном противне не хватало места.
Конрад ел всегда очень быстро. Его желудок и кишечный тракт работали в три смены, как шахты с рудой, заполненные черными рабами. Отто Гендевальд, как обычно, растягивал трапезу на пару часов, после каждой баварской сосиски облизывая пальцы, чтобы никому ничего не досталось. Конрад в сотый раз перечитывал новый том о проститутке, убитой возле Цитадели, о том, что написала Грета-Виктория, и о свидетельских показаниях сенатора Освальда и женщины, что нашла труп.
Давайте немного преподнесу вам сводку про Грету.
Грета-Виктория мечтала стать врачом с самых малых лет – этим она пошла в своего деда-патологоанатома. Она была необычной девушкой, если понимать обычное представление о девушке конца XIX века. Закончившая врачебную академию с отличием и посетившая множество лечебно-исследовательских филиалов на юге Италии, Грета-Виктория готовилась к своей первой практике по стопам дедушки.
Сегодня был её первый день в морге. Она стояла в кабинете. Перед ней на старом немного ржавом столе лежал труп женщины лет 25–30. Грета-Виктория прижала большой и указательный пальцы к холодной, как лёд, плоти и очень туго натянула её над грудиной, как учил её дедушка. Довольно важно сделать надрез. В тот момент она вспомнила всю теорию и кусочки практики, что были в Италии. Сотни врачей и профессоров промчались у неё перед глазами, и вспомнились их советы. В конце концов она не хотела портить светлую память своего деда-врача.
Грета без колебаний провела скальпелем от одного плеча к грудине, с каждым сантиметром вгоняя лезвие всё глубже в кожу. Она пыталась сохранить маску безразличия к этому телу, совсем не думая о том, что когда-то это был человек с прошлым и определённой историей, с родителями и, может быть, детьми. Конечно, её будущее на этом врачебном поприще было совсем не обязательно, и она могла прожить намного дольше, чем ей было предначертано. Но что есть, то есть.
Сталь скальпеля разрезала грудную клетку намного мягче и легче, чем ожидала Грета. В моменте промелькнула мысль: «А делаю ли я всё правильно, и должно ли быть так просто… разрезать человека?» Тошнотворно-вишнёвый запах поднимался от сделанного разреза. Профессора уже давно привыкли к запаху крови, испражнений и других человеческих жидкостей. Грета держалась довольно хорошо. Она подавила нарастающую дрожь. Отступив от стола пару шагов, Грета с изумлением стала разглядывать свою работу.
Кровь совсем не полилась из раны и была темно-алого цвета. Если бы эта проститутка была убита менее 40 часов назад, то кровь бы залила весь стол фонтаном. А так всё закупорилось и застыло, и можно было рассматривать каждую ткань и орган. Грета протёрла скальпель об белую простынь на столе и простерилизовала его. Вдоль зелёной стены лежал ещё десяток трупов с уже дряблыми конечностями. Каждый из них мог бы стать целым аттракционом для любого из интернов, закончивших академию.
Взяв другой, более длинный скальпель, Грета направилась обратно к трупу проститутки с намерением сделать надрез от другого плеча вплоть до пупка. Она не ожидала, с какой силой надо было разделить рёбра, чтобы увидеть сердце. Это уже не было похоже на нарезку свиной колбасы по утрам на завтрак.
В глазах Греты в очередной раз помутнело, и она взялась перечитать заключение полиции. В первом абзаце было сказано о ножевой ране в районе живота, что совпадало с вскрытием, и печень была в застывшей от холода крови. Лицо отсутствовало. Но ничего не было сказано про синяки на шее. Как их могли не заметить? «Возможно, обычная халтура», – подумала тогда Грета и вписала это в свой отчёт.
Ножевое ранение было нанесено задолго до изнасилования. «Что за мерзость крайней степени», – подумала Грета-Виктория. Вот таким врачом была она… Грета-Виктория.
Конрад резко поднял глаза от дела, как только звук его чтения в голове прекратился, и он снова услышал, как Отто облизывает свои пальцы.
– А та женщина, которая нашла труп, случайно не твоя мать, Гендевальд? – спросил Конрад.
– Это почему? – выпучив глаза, но не оторвавшись от еды, ответил ему Отто.
Другие аудиокниги автора Иван Жученко
На юг




 0
0