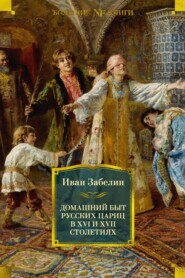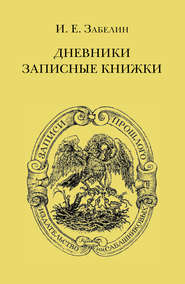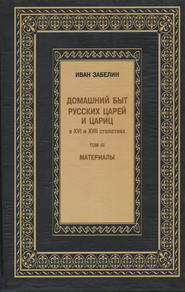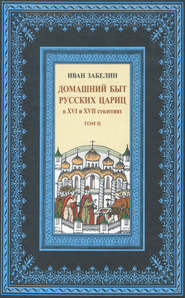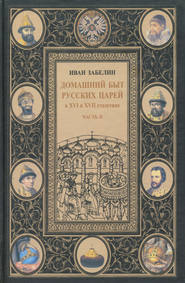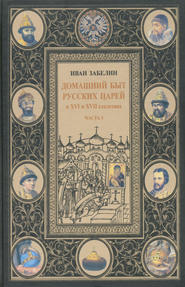По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вообще, кровли в старину служили немалым украшением зданий, особенно в больших, обширных постройках. Они устраивались высокими шатрами в виде башен, сводились в виде бочек, в виде кубов, причем то и другое соединялось нередко вместе, т. е. шатры стояли на бочках. Шатры, кубы и бочки искусно кожушились мелкими решетинами и покрывались большею частью гонтом (лемехом) в чешую. Кроме того, верхи хором украшались чердаками или теремами, род бельведеров, с красными, иногда двойными окнами на все стороны. Около таких чердаков устраивались гульбища, балконы, огороженные балясами, или перилами, гудками (род балясника). Самые верхние чердаки или собственно бельведеры строились или на четыре угла, или же в виде шестерика и осмерика. Верхи чердаков, шатров, бочек, кубов украшались прапорцами, флюгерами, а бочки, сверх того, резными гребнями.
Само собою разумеется, что верхние жила, т. е. чердаки и терема, строились легче нижних ярусов и обыкновенно ставились на стойках или столбах, забирались брусьями или нетолстыми бревнами и обшивались тесом взакрой или вкосяк.
Тем же почти способом устраивались и сени. Они ставились также на стойках или подставках и обвязывались тесом с брусьями. Двухъярусные сени ставились на лежнях на подборе бревнами; подбирать – значило ставить бревна в стену стоймя, что также называлось забирать в столбы; так обыкновенно устраивались сени исподние, или подсенье; верхний ярус забирался досками вкосяк. Чуланы в сенях забирались тесом взакрой. Крыльцо в малых клетях устраивалось на выпускных бревнах; в больших – на подрубах. Лестницы клали на тетивах, в которых вставлялись ступени, обшиваемые тесом. Смотря по высоте клети, лестницу всегда переламывали, т. е. делали с отдыхами и по сторонам почти всегда опериливали, т. е. делали поручни или перила с балясами или решетками. В больших хоромах перед лестницею взрубали рундук на один, на два и на три всхода о трех или более ступенях. Рундук почти всегда покрывался шатриком на точеных столбах, который подбирался тесом вкосяк.
Около двора заметывали замет или заплот, т. е. забор. В достаточных дворах забор рубили из бревен в лапу и в замок, скоблили на оба лица, приводили в черту, чтоб щелей и в углах дыр не было. Забор красился воротами, которые устраивались на столбах или столбцах и связывались в один щит, а в достаточном хозяйстве делались створчатые из двух щитов, с калиткою; а нередко и тройные, т. е. с двумя калитками, обшивочные, т. е. обшитые тесом. Почти всегда ворота покрывались тесовою кровлею с полицами, а на князьке украшались резным гребнем или же небольшими бочками и шатриками. По уборке и отделке ворот всегда можно было судить о достаточности хозяина, ибо двор красился воротами, изба – углами, т. е. внутренним нарядом, хоромы – теремом.
Этих подробностей, которые все, до слова, заимствованы нами из строильных записок XVII столетия (начиная с 1614 г.), весьма достаточно для того, чтоб дать понятие о старинном плотничном деле, а главное, о том, что оно и до сих пор держится на тех же способах и приемах, какие, без сомнения, употреблялись еще в первые века нашей истории. Все плотничные термины сохраняются до сих пор; их почти вовсе не коснулась немецкая, вообще иноземная техника, и самое производство существует без всяких пособий со стороны ученых архитекторов, которые в отношении языка техники, если б захотели, многое могли бы заимствовать из этого родного и, следовательно, наиболее для всех понятного источника родных же слов и названий.
Выше мы представили общие, типические черты старинных деревянных построек вообще в Древней Руси, и особенно в Московской стороне. Эти же самые черты, только в более широких размерах, повторяются и в хоромах московского великого князя. Мы упоминали уже о набережном тереме, средней горнице, столовой гридне и повалушах. По этим названиям можно судить и о прочих частях великокняжеских хором: они были совершенно сходны с описанными выше. Уклонения от общего характера были весьма незначительны и условливались теми требованиями, которые вытекали собственно из жизни великого князя как государя всея Руси. Вообще великокняжеские хоромы – как древнейшие, так и строенные во времена царей сообразно назначению их в домашнем быту государя – можно рассматривать как три особых отделения. Во-первых, хоромы постельные, собственно жилые, или, как называли их в XVII в., покоевые. Они были не обширны: три, много – четыре комнаты в одной связи служили весьма достаточным помещением для государя; одна из этих комнат, обыкновенно самая дальняя, служила постельною, опочивальнею, ложницею; подле нее устраивалась крестовая или моленная; другая имела значение теперешнего кабинета и называлась собственно комнатою, и, наконец, первая по входе именовалась переднею, но не в таком смысле, в каком употребляется это слово теперь: эта передняя была собственно приемною; нынешней же передней в древности соответствовали сени, которые в государевых хоромах почти всегда были теплые. Эти сени перед переднею назывались обыкновенно передними сеньми. Точно такие постельные хоромы были, например, у царя Ивана Васильевича; они находились позади Средней Золотой палаты в связи с нею и заключали в себе передние сени, переднюю и две комнаты с прозванием: что слыл чердак (терем) государыни царицы Настасьи Романовны, потому что на верху их высился ее терем[21 - Дворцовые разряды. Т. I. СПб., 1850. С. 1152.]. Порядок, в каком комнаты следовали одна за другою, бывал различен; но обыкновенно они располагались так: передние сени, передняя, крестовая, комната четвертая (считая от передней) или задняя; наконец, сени задние. Иногда за переднею следовала комната, потом третья, четвертая, как было, например, в каменном Кремлевском Терему. Когда хоромы были в две комнаты, то за переднею следовала комната и потом комнатные или задние сени. Если в хоромах было более комнат, нежели сколько мы здесь поименовали, что, впрочем, случалось редко, то все эти комнаты не носили никаких особенных названий; их просто называли: третья, четвертая, пятая и т. д. или, смотря по местоположению, средняя, задняя, сторонняя и т. п. Иногда в комнатах устраивались чуланы, собственно для спальни, имевшие поэтому значение алькова. Вообще же чуланы и каморки, устраиваемые в комнатах и особенно в сенях, составляли вместе с подклетами обыкновенные принадлежности постельных хором. Сенник и мыльня, принадлежавшие также к постельным хоромам, соединялись с ними сенями или переходами; мыльня же часто помещалась в подклете. Верхний этаж таких хором составляли светлые чердаки или терема с частыми окнами, с гульбищами кругом всего здания, украшенные башенками, прорезными гребнями и маковицами.
Княгинина половина, хоромы государевых детей и родственников ставились отдельно от жилых хором государя и с небольшими изменениями во всем походили на последние.
Ко второму отделению государева дворца мы относим хоромы непокоевые, назначенные собственно для торжественных собраний. В них государь, следуя тогдашним обычаям, являлся только в важных торжественных случаях среди бояр и духовных властей. В них происходили духовные и земские соборы, приемы послов, давались праздничные и свадебные государевы столы – одним словом, это были в деревянных хоромах парадные залы, которым соответствовали разные палаты выстроенного впоследствии каменного дворца. Сообразно такому назначению хоромы этого отделения были обширнее прочих и стояли впереди хором постельных, которые помещались обыкновенно в глубине двора. Что же касается до названий, то эти хоромы не носили особенных имен, за исключением разве гридни, а были известны под общими именами Столовой избы, горницы и повалуши.
К третьему отделению принадлежали все хозяйственные дворовые постройки, службы, располагаемые почти всегда особыми дворами или дворцами, которым и давались названия, смотря по их значению в дворовом обиходе государя. Известны дворцы Конюшенный, Житный, Кормовой или Поваренный, Хлебенный, Сытный и пр. Что же касается до великокняжеской казны, заключавшейся обыкновенно в серебряных и золотых сосудах, дорогих мехах, дорогих тканях и тому подобных предметах, то великий князь, следуя весьма древнему обычаю, сохранял эту казну большею частию в споях и подвалах или подклетах каменных церквей. Так, из летописей узнаем, что казна великого князя Ивана Васильевича хранилась прежде в церкви Рождества Богородицы и Св. Лазаря, а казна его супруги, великой княгини Софьи Фоминичны, – под церковью Иоанна Предтечи на Бору, у Боровицких ворот[22 - Летописец 6714–7042. М., 1784. С. 297; Русский временник. Ч. 2. М., 1790. С. 169.].
Мы уже сказали, что правильного, симметричного плана в древних больших постройках не было, почему и дворец великокняжеский в своем расположении представлял огромную массу зданий, раскиданных без всякого соответствия в частях. Довольно полное и наглядное понятие о характере древних великокняжеских и царских жилых построек или хором дают описания загородных дворцов XVII столетия. Из них особенно любопытно описание Коломенского дворца потому именно, что сохранились его фасады и план, которые во многом могут пояснить описание. Считаем не лишним упомянуть об этом дворце как о типическом памятнике древних деревянных построек. План обнаруживает, что дворец заключал в себе несколько отделений или особых хором, соединенных между собою переходами и частию сенями; что постройка этих отделений происходила в разное время, смотря по надобности; что постепенно к старым пристроивались новые клети, избы, избушки, сени, крыльца, переходы, так что целое лишено всякой симметрии и того порядка в соответствии частей, к которому приучены теперешние вкусы строителей. Хоромы, крыльца, переходы разбросаны с мыслию не о правильности плана или о его красоте, а об удобствах, какие представлялись местом постройки или отношением и зависимостью этой постройки от других отделений дворца.
В лице всех построек с восточной их стороны стояли передние хоромы государевы, заключавшие пять комнат жилых, с отдельными сенями при каждом выходе: именно две впереди, в лице, передняя и комната, и три, составлявшие как бы особое отделение, назади, глубже во двор. Противоположно передней, дальше к северу, стояла обширная столовая. Она соединялась с комнатами посредством весьма обширных столовых сеней, над которыми в три яруса возвышались светлые чердаки или терема с открытыми галереями или гулбищами со всех четырех сторон. Кровля столовой была устроена кубом четвероугольным и на вершине украшена глобусом с изображением орла промежду льва и единорога, или инрога. Кровля двух передних комнат крыта бочкою с резным гребнем наверху и прапорцами или флюгерами. Задние комнаты с принадлежащими к ним сенями покрыты четырехскатною кровлею; над четвертою и пятою был светлый чердак – терем и шатровая кровля, дававшая строению вид башни, тем более что вершина ее была украшена двуглавым орлом. Над рундуками или отдыхами, площадками крыльца и над сеньми возвышались также стройные шатры. Все кровли крыты гонтинами в чешую. Высота этих шатровых строений или башен простиралась от 7 до 15 сажен. Нижний этаж хором занимали подклеты, в которых помещались кладовые, жилье для дворовых людей и для стрелецких караулов, находившихся: один – подле крыльца под передними комнатами; другой – подле ворот, под столовою.
Еще глубже во двор, за комнатами государя, стояли хоромы царевича с двумя комнатами и с теремами наверху, крытые двумя шатровыми кровлями в виде башен, соединенных в верхних чердаках переходцами. Далее, за хоромами царевича, стояла государева мыленка, а за нею оружейная и стряпущие избы. Из мыленки шла лестница вверх на сени царицыных хором, которые стояли лицом к северу, позади хором государевых, и заключали в себе три комнаты с обширными теремами наверху, крытые бочкою, и одну комнату также с теремами, крытую шатром в виде башни. Обширные передние сени этих хором были покрыты также шатром, а крыльцо – шатром с бочками.
Взади дворца, с западной стороны, размещены были четыре отделения хором больших и меньших царевен, каждое из трех комнат, с теремами наверху, с мыленками, стряпущими избушками и другими принадлежностями старого быта, крытые также шатровыми кровлями наподобие башен. Нижний этаж всех хором точно так же состоял из подклетов, которые служили помещением для дворовых людей, для кладовых и для стрелецких караулов.
Хоромы царевен соединялись длинными крытыми переходами с хоромами царицы и с церковью. Точно так же переходами соединялись и другие отделения коломенских хором.
Несмотря на то что Коломенский дворец построен в половине XVII столетия, он сохранил неизменно – и в плане, и в фасадах – все типические черты древнейших построек и потому, как мы упомянули, может служить характеристикою как древних, так и современных ему деревянных построек. В этом убеждают также планы и фасады и других царских и боярских хором, изданные в особом Сборнике при Записках Археологического общества. Отделение русской и славянской археологии, т. 2. Нет никакого сомнения, что таков, по крайней мере в общих и главных чертах, был и первоначальный Кремлевский дворец. Да и самые подробности не могли слишком уклоняться от общего типа, а тем более резко изменяться. Вкусы и потребности жизни в допетровской Руси в течение целых столетий были одни. Основною мыслью было жить так, как жили отцы и деды, по старине и по пошлине, что пошло исстари, как было при отцах, при дедах и при прадедах. И если прапрадедовский кафтан, переходя к праправнуку, нисколько не изменял своего покроя, то в отношении жилищ, в их постройке и устройстве еще неизменнее сохранились старые привычные порядки и предания, тем более что неизменны были потребности и общий склад жизни и быта, от которых вполне зависели и все материальные их формы.
Мы увидим, что и каменный дворец, построенный на месте деревянного итальянскими архитекторами в конце XV в., нисколько не уклонился от заветного типа. Вместо деревянных были построены те же, только более обширные, клети, гридни, горницы, названные палатами. Клеть, изба и здесь послужила неизменным типом, который не допустил связать в одно целое, в один общий цельный план особые комнаты нового дворца, каковы, например, приемные парадные и жилые покои. По-прежнему они были размещены, придерживаясь, без сомнения, старому основанию хором, отдельно, как размещались во дворах избы и клети, смотря по местному удобству и по неизменным требованиям и условиям тогдашнего быта, которые уже заранее указывали места для той или другой постройки. Старое оставалось даже и в названиях: так, нижние этажи каменных зданий по-прежнему именовались подклетами, хотя были всегда со сводами и только по своей местности соответствовали подклетам деревянных хором. Крыльца и при каменных палатах сохранили свое древнее значение хоромного крыла и ставились с совершенным подобием крыльцам деревянным, каково, например, было крыльцо и при Грановитой палате, названное Красным. Но что особенно напоминало древний характер хоромных строений – это переходы или открытые сени, которые и в каменном дворце, по отдельности разных палат и зданий, составляли такую же необходимость, как и в хоромах деревянных.
Мы сказали, что в конце XV в. на месте великокняжеского деревянного дворца воздвигнут дворец каменный. Мысль построить каменный дворец возникла вследствие новых потребностей, вызванных новым политическим положением московского государя. В конце XV в. великий князь Московский сделался самодержцем всея Руси; к Москве стали постепенно присоединяться разные области Древней Руси, жившие дотоле независимо, самобытно. Мысль о самодержавии Московского государя с каждым днем приобретала более силы, более сознательности, а с этим вместе совершенно другое значение получал и государев дворец в Москве. Прежние формы, прежние обряды быта великокняжеского становились уже недостаточными в жизни государя-самодержца. Сверх того, это новое государственное направление, только что возникшее в Москве естественным ходом ее истории, было приведено в полную сознательность и определенность с приездом в Москву греческой царевны Софьи Палеолог, с которою великий князь Иван Васильевич вступил в супружество. Последствия этого брака, имевшие важное значение в государственном отношении, не менее важны были и в частном быту московского государя: его двор и дворец с этого времени стали постепенно преобразовываться, заимствуя многое от угаснувшей Византии. Притом этот брак завязал самые тесные сношения Москвы с европейскими государствами; начались частые приезды иноземных послов, прием которых при новых политических отношениях Московского государя требовал большей церемониальности, большего великолепия; поэтому новый дворец, более обширный и более соответственный новым потребностям, был необходим. Вообще исход XV в. составляет блестящую эпоху не только в истории государева дворца, но и в истории всего Кремля, который, по мнению некоторых иностранных путешественников XV и XVI вв., составлял собственно дворцовую крепость. Никогда – ни прежде, ни после – не было в Кремле такой напряженной деятельности в поновлениях и постройках. Соборы и церкви, палаты государевы, городские ворота, стены, стрельницы, башни с тайниками – все это быстро воздвигалось при помощи итальянских зодчих, нарочно для того вызванных, и не более как в 20 лет наружность Кремля совершенно изменилась. На месте прежних деревянных зданий были уже новые, каменные, более обширные, красивые и более прочные. Зубчатые стены со стрельницами, окруженные глубокими рвами, придавали Кремлю грозный, величественный и красивый вид, который еще с большею яркостью обрисовывался на темном грунте деревянных построек тогдашней Москвы и на зелени ее многочисленных садов или, правильнее, огородов, находившихся почти при каждом доме.
Великий князь Иван Васильевич начал постройку нового каменного дворца с церкви Благовещения, что на Сенях, воздвигнутой еще при великом князе Василии Дмитриевиче. В 1484 г., разрушив дедовскую постройку, он заложил новую, на каменном подклете, который обложил казною, т. е. палатами для своей казны. Сверх того, с восточной стороны этой церкви, между нею и Архангельским собором, заложил кирпичную палату также с казнами и с большим белокаменным погребом, известную впоследствии под именем Казенного двора. Таким образом, не нарушая древнего обычая, великий князь и в каменном дворце устроил свою казну подле церкви. Почти в то же время, в 1487 г., с западной стороны Благовещенского собора, на великокняжеском дворе, вероятно, на том месте, где был набережный златоверхий терем при Дмитрии Донском, – фрязин Марко Руф заложил каменную палату, которая, быть может, относительно Большой Грановитой называлась малою, а также набережною[23 - Карамзин отнес 1487 г. к заложению Грановитой палаты, которая была окончена постройкою в 1491 г. Последующие описатели кремлевских древностей повторяли слова историографа. Но в летописи под 1487 г. сказано, что Марко Фрязин заложил палату на дворе великого князя, где терем стоял, а под 1491 г. упомянуто о совершении большой палаты на площади. Основываясь на этом различии местности на дворе и на площади и припомнив древний Набережный терем, мы должны были отнести 1487 г. к заложению не Грановитой, а Набережной палаты. Выражение большая палата указывает, что существовала малая. Малая палата, именно Набережная, упоминается в 1490 г. по случаю приема цесарского посла Юрия Делатора; следовательно, еще до совершения Грановитой она служила уже приемною. В первое время Грановитая палата именовалась только Большою. – Памятники дипломатических сношений. Т. I. С. 26; Карамзин Н. М. Указ. соч. Т. X. Примеч. 111.]. В августе 1489 г. Благовещенская церковь на государевых Сенях была уже освящена. Между тем постройка каменных зданий на дворе великого князя продолжалась. В 1491 г. Марко Руф и Петр Антоний выстроили на площади большую палату, которая сохранилась до нашего времени под именем Грановитой. Эта палата как передний приемный покой дворца заменила древнюю гридню, а в царском быту получила значение главной церемониальной залы. В 1492 г. апреля 5-го великий князь, переехав со всем семейством из своего старого двора в новые хоромы князя Ивана Юрьевича Патрикеева, стоявшие против церкви Иоанна Предтечи на Бору, повелел свой «старый деревянный двор разобрать и нача ставити каменный двор». Между тем в то же время он велел поставить себе свой собственный двор за Архангельским собором, деревянный, в котором временно намеревался поселиться. Но это начало постройки каменного дворца было не совсем благополучно. 28 июня 1493 г., в воскресенье утром, случился один из тех страшных, опустошительных пожаров, которые бывали довольно часто в древней столице и которые истребляли деревянные ее постройки почти каждый раз с конца в конец. Загорелось за Москвою-рекою, и при ужаснейшей буре в один миг «нечислено нача горети во мнозех местех». В Кремле прежде всего загорелся новый деревянный двор великого князя (Патрикеевский) у Боровицких ворот, в котором он только что поселился. Потом занялись житницы под горою, на подоле Кремля; оттуда новый двор великого князя за Архангельским собором; и все это место с другими близлежащими частями Кремля выгорело дотла. Летопись, описывая этот пожар, говорит в заключение, что «по летописцам и старые люди сказывают, как Москва стала, таков пожар не бывал». Великий князь выехал из опустошенного Кремля на Яузу, к Николе Подкопаеву; поселился на крестьянских дворах и стоял там до ноября, когда и переехал в Кремль, в новые хоромы, выстроенные для него на пожарище. Опустошение, произведенное этим пожаром, было чувствуемо долго. В несколько часов Москва превратилась в огромное пепелище; жители остались без имущества, без крова; более 200 чел. погибли в пламени. При таких обстоятельствах великому князю вовсе нельзя было думать о сооружении нового каменного дворца: нужно было прежде всего обстроить город, помочь его жителям, которые все более или менее пострадали от пожара… Точно так и было. Летописи этого времени не говорят ни о каких значительных постройках – ни в самом Кремле, ни на дворе великого князя. Напротив, в них находим известие об одних только распоряжениях великого князя, касавшихся более городского благоустройства. Еще после пожара, случившегося в Кремле в этот же 1493 г. весною, великий князь велел очистить от строений и церквей Занеглименье, близость деревянных построек которого всегда угрожала Кремлю и на этот раз, вероятно, была причиною его опустошения. Несмотря на жалобы и неудовольствия некоторых лиц, все хоромы и церкви отнесены были от Кремлевской стены на расстояние 110 сажен. После июльского пожара, который начался за Москвою-рекою, великий князь велел также очистить от строений часть Замоскворечья, лежавшую против Кремля, и в 1495 г. развел там сад, называвшийся в XVII столетии государевым Красным садом и Царицыным лугом.
К сооружению каменного дворца приступили не прежде как через 6 лет после описанного пожара. В 1499 г. великий князь снова заложил[24 - На поле рабочего экземпляра против этих слов добавлено: «на старом месте». – Ред.] «двор свой камен, полаты каменныя и кирпичныя, а под ними погребы и ледники, да и стену каменную от двора до Боровицких ворот». Постройка поручена была новому итальянскому зодчему, «Фрязину Алевизу, от града Медиолама». Но великий князь не дождался окончания этих палат, на которые положил столько горячих забот и трудов; в 1505 г. он умер. Дворец был готов через три года после его смерти, и в мае 1508 г. сын его Василий переехал на житье в эти новые хоромы. Достойный преемник всех начинаний своего отца, особенно в отношении новых построек, великий князь Василий Иванович, довершив неоконченный дворец, великолепно украсил его вместе с церковью Благовещения на Сенях, которую «повелел (1508 г.) подписали золотом, иконы все: деисус, праздники и пророки, обложили серебром и златом и бисером, и верх церковный покрыть и позлатить». Сверх того, он воздвиг на старых местах две новые каменные церкви: одну – в 1514 г. во имя Рождества Богородицы на Сенях, с приделом Св. Лазаря[25 - Каменная церковь Рождества Богородицы построена в 1393 г. супругою Дмитрия Донского – великой княгиней Евдокиею на месте малой деревянной церквицы Св. Лазаря, которая вошла в новопостроенную как ее придел (Карамзин Н. М. Указ. соч. Т. V. Примеч. 254).], и другую – в 1527 г. во имя Спасова Преображения, на дворце, т. е. посреди своего двора, также с приделами. В 1516 г. великий князь, распространяя хозяйственные постройки, выкопал по течению Неглинной, за Боровицкими воротами, пруды и поставил каменную мельницу[26 - ПСРЛ. Т. III. С. 198.].
Расположение каменного первоначального дворца весьма трудно определить с тою точностью, которая могла бы удовлетворить наше любопытство. Немного мимоходных кратких указаний на разные палаты этого дворца дают весьма сбивчивое понятие о его составе. Более всего в этом отношении замечательна и в высшей степени любопытна дополнительная статья к свадебному разряду великого князя Василия, бывшему в 1526 г., т. е. спустя 18 лет после постройки дворца[27 - Дополнения к Актам историческим. Т. I. СПб., 1846. № 24. Роспись, кому где быти по крыльцем и в дверях.]. Вникнув хорошенько в этот акт, можно положительно сказать, что первоначальный каменный дворец нач. XVI в., несмотря на пожары и беспрестанные перестройки и переделки, в главных чертах своих нисколько не изменился в течение двух с половиною веков и, покинутый царями в начале XVIII столетия, устоял, хотя и в развалинах, до времен императрицы Елисаветы Петровны и даже до начала нынешнего столетия. Руководствуясь сведениями, предлагаемыми этим любопытным актом, мы постараемся, сколько будет возможно, указать местность, по крайней мере главных частей, этого первоначального дворца.
Передний фасад дворцовых зданий или, вернее сказать, лицо дворца обращено было на площадь, между Благовещенским, Архангельским и Успенским соборами и церковью Иоанна Лествичника, что под Колоколы, на месте которой в XVII в. воздвигнут «Иван Великий». На эту площадь выходили две дворцовые палаты – Большая, стоявшая на самой площади, ныне Грановитая, и Средняя, находившаяся между Большою и Благовещенским собором, к западу от них, на дворце или на дворе великокняжеском. Перед Среднею палатою было Красное, иначе Верхнее крыльцо или Передние переходы, на которые с площади вели три лестницы: одна была, как и теперь, у стены Большой, или Грановитой, палаты – это та, которую теперь неправильно называют Красным крыльцом; другая – Средняя лестница, теперь не существующая; третья – Благовещенская паперть. Между лестницею подле Грановитой палаты и Среднею были ворота, которые посредством проезда под Красным крыльцом и Среднею палатою вели с дворца, т. е. с внутреннего двора, на площадь. Средняя лестница прямо через крыльцо вела в сени Средней палаты, которая почти с этого же времени (1517 г.) называется Среднею Золотою и просто Золотою, потому что была расписана внутри золотом. Из этих же сеней двери вели в Столовую избу, которая стояла позади Средней палаты против алтарей церкви Спаса на Бору. Подле Столовой избы была лестница вниз на двор к Спасу; крыльцо перед этою избою, служившее продолжением Передних переходов, соединяло ее с Набережною палатою, стоявшею против западных дверей Благовещенского собора. Далее к западу от этой палаты по линии Кремлевской горы к Москве-реке стояли чердаки или терема. Посреди государева двора стоял, как мы уже упоминали, Спасский Преображенский собор. Постельные или жилые хоромы великого князя и Постельная изба, княгинина половина, примыкавшая к церкви Рождества Богородицы, находились на том самом месте, где теперь Теремный дворец. В то время существовали только два нижние этажа этого здания, построенные Алевизом на белокаменных подклетах и погребах в одно время с другими палатами. Над этими-то этажами стояли деревянные постельные хоромы великого князя и великой княгини или собственно княгинина половина. Здесь же, у церкви Лазаря Святого, находилась каменная приемная палата великой княгини, называвшаяся, как можно о ней предполагать, Западною и Заднею (1547 г.) в отношении к Передним переходам дворца, т. е. к Красному крыльцу, а также палатою, что у Лазаря Святого[28 - Царственная книга. СПб., 1769. С. 57. Дополнения к Актам историческим. Т. I. № 24. Древняя Российская вивлиофика. Т. XIII. С. 39.], – Лазаревскою (1535 г.), когда великая княгиня Елена принимала царицу Казанскую. Двери из этой палаты вели на Постельное крыльцо, которое примыкало также к сеням Грановитой палаты и соединялось дверью между этими сенями и сенями Средней палаты с Передними переходами или Красным крыльцом. С восточной стороны это здание оканчивалось Наугольною палатою, что от Пречистой (Успенского собора), в которой впоследствии была устроена Царицына Золотая палата[29 - Древняя российская вивлиофика. Т. XIII. С. 13. Подробности о постройке и устройстве Теремного дворца см. в нашем описании этого здания в «Памятниках древнего русского зодчества» изд. Ф. Ф. Рихтера. М., 1853. Тетр. 3. М., 1853.]. Лестница с Постельного крыльца вела на двор, к Спасу. Поваренный дворец стоял позади Рождественской церкви и хором великой княгини, соединяясь с этими хоромами Задним крыльцом с лестницею. По береговой линии дворец простирался до церкви Иоанна Предтечи на Бору, где в палате, что на дворце, в 1537 г. скончался в заключении, в нужде, страдальческою смертью князь Андрей Иванович Старицкий.
Вот в кратком очерке расположение каменного дворца, заложенного великим князем Иваном Васильевичем. Воздвигнутый итальянцами по мысли или, по крайней мере, при сильном влиянии супруги великого князя – Софьи Фоминичны Палеолог, этот дворец не мог, конечно, во всем подчиниться русским вкусам и потребностям; архитектура его, по современным же свидетельствам, как и следовало ожидать, носила характер итальянский. Что касается его внутренних украшений, то можно также полагать, что вкус великой княгини Софьи, воспитанной в Италии среди родственников и единоземцев-греков, и вкус довершителя дворца великого князя Василия, воспитанного Софьею, внесли в новый дворец много таких вещей, которых не знала простая жизнь прежних великих князей и которые были необходимы при новом значении московского великого князя как царя. Впрочем, нельзя сказать, чтобы каменный дворец московских государей был совершенною новостью в тогдашнее время; потому что в Новгороде, гораздо прежде, мы находим обширный владычный двор, с особенным великолепием устроенный после пожара в 1432 г. архиепископом Евфимием, который выстроил там каменные комнаты, большие каменные палаты и разные другие здания для своего обихода. Некоторые палаты и сени были им подписаны, т. е. украшены стенописью; одна из больших палат, название которой нам неизвестно, была о тридцати дверях! Все эти постройки воздвигнуты были немецкими зодчими из-за моря при помощи новгородских мастеров[30 - ПСРЛ. Т. III. С. 111–114.]. Может быть, новгородский владычний двор послужил отчасти образцом или примером и для московского дворца. Великий князь Иван Васильевич, побывав под Новгородом, установив там «правду московскую», без всякого сомнения, видел и то благолепие, среди которого жил новгородский владыко и перед которым нельзя было оставаться хладнокровным зрителем московскому самодержцу. По крайней мере, после присоединения Новгорода к Москве начинаются все преобразования не только в отношении дворца, но и в отношении самой Москвы, например Кремля. С этого же времени появляются в Москве каменные здания и у частных лиц, например палата на четырех каменных подклетах, выстроенная митрополитом Геронтием, каменные палаты у Ховрина и Василия Образца и т. д.
При царе Иване Васильевиче в 1547 г., 21 июня, московский дворец сделался жертвою нового ужаснейшего пожара, который равным образом истребил и всю Москву. «Загореся храм Воздвижения Честнаго Креста, – говорит летописец, – за Неглинной, на Арбатской улице, на Острове, и бысть буря велика, и потече огнь якож молния, и пожар силен промче во един час Занеглименье. И обратится буря на град больший (Кремль)»[31 - Царственная книга. С. 137.]. Здесь, на царском дворе, вспыхнули кровли на палатах и деревянные избы государя. Потом занялись и каменные палаты, украшенные златом; сгорели также Казенный двор с царскою казною, Оружничья палата с воинским оружием, Постельная палата, царская конюшня и даже в погребах под палатами выгорело все, что только было в них деревянного. Не устояла и церковь Благовещения Златоверхая. В ней погибли невозвратно деисус письма знаменитого иконописца Андрея Рублева, обложенный золотом, и все иконы греческого письма древних великих князей, собранные от многих лет и украшенные также златом и бисером многоценным, т. е. дорогими каменьями. Летописец снова замечает, что «таков пожар не бывал на Москве, как она стала именоватися великими князьями, славна и честна быти по государству их». Опустошив весь Кремль, пожар перешел и в другие части города и свирепствовал с такою силою, что, по выражению летописца, «железо, яко олово, разливашеся и мед, яко вода, растаяваше». Государь выехал в с. Воробьево и жил там все время, пока в Кремле ставили для него новые деревянные хоромы и возобновляли распавшиеся от огня палаты. Для украшения Благовещенского собора иконами и царских палат стенописанием собраны были из Новгорода, Пскова и других городов иконописцы, которые и восстановили прежнее благолепие царского дворца.
Возобновив дворец, царь увеличил его впоследствии новою пристройкою. В 1560 г. он повелел устроить для своих детей «особный двор и хоромы позади большой Набережной полаты, на взрубе», с храмом Сретения Господня. Потом, в 1565 г., учреждая опричнину, царь задумал было свой особый Опричный дворец выстроить позади дворцовой церкви Рождества Богородицы, там, где были хоромы великой княгини и где стоял Поваренный дворец с разными приспешными палатами, с погребами и ледниками, по самые Куретные ворота, которые вели на Поваренный дворец. Но предположение это осталось предположением потому, вероятно, что не совсем согласовалось с духом опричнины, который требовал совершенного удаления от старого порядка, между тем как предполагаемый дворец должен был стоять подле кремлевских палат, оставленных за Земщиною. По крайней мере, известно, что царь повелел выстроить себе дворец вне Кремля, за Неглинною, на Воздвиженке, против кремлевских Ризположенских (ныне Троицких) ворот, на месте, где был двор князя Михаила Темрюковича Черкасского. В этот дворец он и переехал 12 января 1567 г.[32 - Карамзин Н. М. Указ. соч. Т. IX. Примеч. 31, 137–138, 268. Наши предположения о местоположении этого Опричного дворца см.: Археологические известия и заметки. 1893. № 11.], но жил в нем недолго, потому что любимым его местопребыванием с этого времени была Александрова слобода, откуда он приезжал только для приема иноземных послов и весьма редко – для других каких-либо дел. Покинутый царем, этот Опричный дворец вскоре сгорел, именно во время нашествия крымского хана Девлет-Гирея, истребившего Москву ужаснейшим пожаром, жертвою которого был также и дворец Кремлевский. Это было в мае 1571 г. Летопись с прежними сетованиями описывает страшные бедствия этого пожара; его испугался даже сам Девлет-Гирей и удалился в с. Коломенское. Для нас любопытны известия собственно о Кремлевском дворце. Летописец говорит, что «в Грановитой, и в Проходной, и в Набережной, и в иных полатах прутье железное толстое, что кладено крепости для, на связки, перегорело и переломалось от жару». Само собою разумеется, что царский дворец не оставался в таком положении и вскоре был возобновлен, хотя об этом не говорят ни летописи, ни акты, доселе известные. За остальные годы царствования Ивана Васильевича Грозного о дворце имеем мало сведений. Из известий уже XVII столетия узнаем только, что его хоромы стояли позади Средней Золотой палаты и заключали в себе передние сени, переднюю и две комнаты.
При царе Федоре Ивановиче, судя по отзывам иностранных путешественников, дворец был в цветущем состоянии; все приемные палаты в это время были великолепно украшены стенописью. При царе Федоре устроена[33 - Это здание построено Иваном III.], вероятно, и приемная Золотая палата для его супруги, царицы Ирины, отчего эта палата и называлась Палатою царицы Ирины, Золотою Царицыною палатою и Меньшею Золотою, в отличие от Большой Грановитой и Средней Золотой. Прежде она именовалась просто Наугольною от Пречистой, т. е. со стороны Успенского собора.
Царь Борис Федорович Годунов во время голода, бывшего в 1601 и 1602 гг., повелел, «чтобы людем питатися», воздвигнуть большие каменные палаты на взрубе[34 - Летопись о многих мятежах. 2-е изд. М., 1788. С. 64.], «где были царя Ивана хоромы», построенные им для детей. Это было здание Запасного двора, фасад которого опускался по взрубу под гору и над которым в XVII столетии находим уже Набережный Красный сад. Здесь же, кажется, были и деревянные жилые хоромы царя Бориса, сломанные по повелению Самозванца.
При Самозванце больших перемен в составе дворца не могло произойти по его кратковременному пребыванию в царских палатах. Известно только, что он выстроил для себя новые хоромы, вероятно, на месте годуновских, весьма красивые, по свидетельству современников, в польском вкусе; они находились возле Сретенского собора, на верху упомянутого здания Запасного двора, и лицом обращены были к Москве-реке[35 - Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1847. № 9. С. 25; Карамзин Н. М. Указ. соч. Т. XI. С. 131. Примеч. 402, 552; Сказания современников о Димитрии Самозванце. Ч. III. СПб., 1832. С. 143; Ч. 4. С. 23, 164.]. О постройке этих хором современник и очевидец их Исаак Масса рассказывает следующее: «Над большою Кремлевскою стеною (т. е. над зданием Запасного двора) Лжедимитрий велел построить великолепное здание, откуда была видна вся Москва. Оно было построено на высокой горе, под которою протекала река Москва, и состояло из двух строений, расположенных одно подле другого и сходившихся под углом. Одно предназначалось для будущей царицы, а другое для царя. (Следует изображение дворца.) Так стоял дворец на верху высоких тройных стен[36 - Со стороны Москвы-реки Кремль был обнесен двумя рядами стен; третья стена, о которой здесь говорится, был фасад здания Запасного двора, представлявшегося из Замоскворечья тоже в виде стены.]. В этом дворце Димитрий велел позолотить очень дорогие балдахины, стены обить дорогою парчою и рытым бархатом; все гвозди, крюки, цепи и петли дверные покрыть очень толстым слоем позолоты; внутри сделать превосходные печи и украсить их разнообразными произведениями искусства (по дневнику Марины, печи были зеленые и некоторые обведены серебряными решетками); занавесы у окон сделать из отличной ткани алого цвета. Он приказал выстроить роскошные бани, красивые башни и конюшню рядом со своим дворцом, хотя в нем уже была одна большая конюшня. В вышеописанном дворце царь велел устроить множество потаенных дверей и ходов…»[37 - Масса И., Геркман Э. Сказания Массы и Геркмана о Смутном времени в России. СПб., 1874. С. 166, 169–170.]
Из этого дворца Самозванец любовался не только видами Москвы, но и разными потехами, которые зимою устраивал на льду Москвы-реки.
Тот же Исаак Масса рассказывает, что «Лжедимитрий, любя воинские упражнения, приказывал строить крепости для осады и обстреливания их пушками и однажды велел сделать для образца крепость, двигавшуюся на колесах, с несколькими небольшими пушками и разного рода огнестрельными снарядами. Он хотел употребить эту подвижную крепость против татар и этим испугать как их самих, так и их лошадей. И действительно, это изобретение было очень остроумно. Зимою Димитрий приказал для пробы выставить на льду реки Москвы эту крепость, и рота польских всадников должна была ее осаждать и брать приступом. Это зрелище царь мог отлично видеть сверху, из своего дворца, и ему казалось, что крепость вполне удовлетворяет его желанию. Она была прекрасно сделана и вся раскрашена, на дверях были изображены слоны, на окнах – вход в ад, извергавший пламя; в нижней части на небольших окнах, имевших вид чертовых голов, были поставлены маленькие орудия». Наивный Масса верил, что от такого остроумно придуманного изобретения татары тотчас пришли бы в замешательство и обратились бы в бегство! «Москвитяне, – оканчивает он, – назвали эту крепость адским чудовищем и после смерти Димитрия, которого они называли чародеем, говорили, что он на время запер там черта, впоследствии сожженного вместе с этой крепостью (и с трупом Самозванца)».
Эта замысловатая крепость была не что иное, как небольших размеров Гуляй-город, весьма употребительный в то время в наших военных действиях. Изобретательность Самозванца заключалась только в том, что он расписал красками этот городок в образе апокалипсического треглавого ада, для чего, вероятно, верх городка был устроен в виде трех башен в соответствии адовым головам[38 - Следуя за Карамзиным (Т. XI. С. 131), мы в прежних изданиях нашего труда ошибочно говорили об этом городке как об огромном медном Цербере, стоявшем на сенях перед хоромами Самозванца. Сказание Массы вполне разъяснило, какого рода был этот Цербер и где он стоял.].
Описание Массы значительно пополняется и современным русским рассказом об этом аде: «И сотвори себе (Самозванец) в маловременной сей жизни потеху, а в будущей – знамение превечного своего домовища, его же в Российском государстве, ни во иных, кроме подземного, никто же его на земли виде – ад превелик зело, имеюще у себя три главы; и содела обоюду челюсти его от меди бряцало велие. Егда же разверзет челюсти своя, извну его яко пламя предстоящим ту является и велие бряцание исходит из гортани его; зубы же ему имеюще осклаблени и ногти его, яко готови на ухапление; и изо ушию якож пламеню распалившуся. И постави его проклятый он прямо себе, на Москве-реке, себе во обличение; даже ему из превысочайших обиталищ своих зрети нань всегда и готову быти, в некончаемый век, в онь на вселение и с прочими единомышленники своими»[39 - Карамзин Н. М. Указ. соч. Т. XI. С. 131. Примеч. 403. См. также хронографы, которые свидетельствуют притом, что в этом аду сожжено было и тело Самозванца, «на месте, нарицаемом Котле, от града яко седмь поприщ, за курганами»; по другим, в Садовниках, за Москвою-рекою: «А ростригино тело, в соделанном его аде, за Москвою-рекою в Верхних Садовниках сожгоша и приятелей его поляков поставища около ада смотрити, дабы в Польше сказали, яко рострига царствует во аде». См. наши заметки об одном из хронографов: Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, изд. Н. Калачовым. Кн. 1. М., 1859.]. Из описанных выше хором Самозванец, преследуемый по всем комнатам разъяренною толпою, выскочил в окно и упал на Житный двор, который расположен был под горою Кремля, под самым дворцом Самозванца. За несколько часов прежде, по тому же самому пути, отправлен был смелый обличитель его, дьяк Тимофей Осипов: изрубленный немецкою стражею на сенях Лжедимитриевых хором, он был свержен оттуда вниз, где стояли житницы[40 - Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1847. № 9: «Сказание и повесть, еже содеяся».].
Царю Василью Ивановичу Шуйскому некогда было заниматься дворцом: он выстроил только для себя и для своей царицы новые брусяные хоромы, потому что жить в опальном дворце Лжедимитрия было неприлично новому, законному государю.
После Шуйского настает Московская розруха, которая не истребила царских палат страшным пожаром, как было прежде, при великом князе Иване Васильевиче и при внуке его, Грозном, но зато опустошила их так, что при вступлении на престол царя Михаила Федоровича дворец представлял самую грустную картину: от прежнего великолепия, которому так дивились посещавшие нас иностранцы, остались только голые стены в самом точном смысле этого слова. «На царском дворе, – говорит рукопись Филарета, – во святых Божиих церквах, и в полатах, и по погребам – все стояху Литва и Немцы и все свое скаредие творяху». Так, например, в Грановитой палате стоял известный Маскевич, оставивший нам такую живую картину московских происшествий этого времени. Следы пребывания поляков в царских палатах оставались до царя Михаила Федоровича. При вступлении его на престол все палаты и хоромы были без кровель, без полов и лавок, без окончин и дверей, так что новому царю негде было поселиться[41 - Дворцовые разряды. Т. I. С. 1154.]. Отправившись в Москву в конце апреля 1613 г., он повелел Земскому совету изготовить к своему приезду Золотую палату царицы Ирины Федоровны – супруги царя Федора, с проходными сенями; еще другую палату с сеньми же и все так называемые «Мастерские палаты», стоявшие между Золотою и церковью Рождества Богородицы, которые впоследствии составили нижний этаж каменных хором, существующих доныне под именем Теремного дворца. Для своей матери – инокини Марфы Ивановны – царь велел устроить деревянные хоромы супруги царя Василия Шуйского. На исправление этих палат и хором употреблены были, за недостатком леса, брусяные хоромы царя Василия. Между тем еще до царского указа Земский совет приготовил для государя палаты: Среднюю Золотую, Грановитую и старые хоромы, в которых живал царь Иван Васильевич, что слыл чердак (терем) первой супруги его, Настасьи Романовны. Все это, разумеется, делалось наскоро, при недостатке денег, плотников и леса, нужного для этих поделок. Но, несмотря на такие затруднения, дворец был приведен в возможное устройство, и молодой царь поселился в нем с матерью в конце апреля 1613 г. Трудно было царю Михаилу восстановить прежнее благолепие дворца. Московское государство, которого он был избранником, в течение 10 лет постоянно тратило свои силы и к концу было вовсе разорено, так что в начале его царствования не давало средств к восстановлению прежнего порядка не только в государстве, но и в самой Москве, которая как представительница русской жизни в то время была так же или дотла выжжена, или разграблена до нитки… Предки наши очень верно прозвали эту несчастную эпоху в истории Москвы Московскою Розрухою.
Постепенно, по мере средств, которые были еще незначительны, царь восстановлял Москву, причем и дворец также постепенно возобновлялся и устраивался. В 1615 г. иконописцы Ивашка да Ондрюшка Моисеев расписывали уже в новые большие государевы хоромы, выстроенные еще в 1614 г., подволоки, или плафоны. В 1616 г. в тех же хоромах Серебряной палаты сторож Михалка Андреев делал литую вислую подволоку (потолок, плафон), которая была им же и вызолочена[42 - Расходные книги Казенного приказа 7124 г., № 898, и дела этого приказа в столбцах в Архиве Оружейной палаты.]. В январе того же года государь справлял новоселье в этих хоромах и наградил, вероятно за постройку, плотников Первова Исаева, Салмана Пантелеева, Бажена Родионова. Потом над Золотою Меньшею, или Царицыною, и над Проходною палатами и на Постельном крыльце устроены новые кровли, деланные котельными мастерами, что и заставляет думать, что кровли были медные. 1619 г., февраля 14-го, в царских хоромах случился пожар, последствия которого неизвестны; но можно догадываться, что царские деревянные хоромы были истреблены, потому что в 1620 г. дворцовый плотничий староста, Первой Исаев, выстроил для государя новые хоромы, новую Столовую избу и Постельную комнату, которые на другой год были украшены знаменем и письмом, т. е. иконописью или живописью в иконном стиле, известнейшими в то время иконописцами Прокопьем Чириным, Назарьем Савиным, Иваном Паисеиным, Осипом Поспеевым, травником Лукою Трофимовым и др.[43 - На поле рабочего экземпляра автором замечено: «Доп. Д. Р. мои, 278». См.: Дополнения к Дворцовым разрядам… собранные… Иваном Забелиным. Ч. I. Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. Кн. I. 1882. С. 277–278. – Ред.] В конце ноября того же года справлено в Столовой новоселье. В 1624 г. государь прибавил к своим хоромам две мыленки, избушку и сенничек, а в 1625 г. возобновил церковь Рождества Богородицы на Сенях с приделом Св. Лазаря. В том же году за дворцом построены были каменные ледники и пивоварни, а над дворцовыми Куретными воротами светлица – палата мастерицам, золотым и белым швеям, для которых подле этой палаты выстроено было также несколько деревянных светлиц на подклетах[44 - Расходные книги Казенного приказа // Архив Оружейной палаты. № 898, 905, 909, 916, 921, 923; Расходные книги Мастерской Царицыной палаты // Там же. № 738.]. Но только что дворец приведен был в надлежащее устройство, как снова пожар опустошил его в 1626 г., 3 мая. В Кремле, кроме монастырей Вознесенского и Чудова, «двор государев и патриарший и в приказах каменных всякие дела погореша, и казна, и конюшни, и житницы все, и все жила государевы погореша». Но в то же лето, после пожара, дворцовый плотничий староста (так звали наших старинных архитекторов), тот же Первуша Исаев, поставил государю новые жилые постельные хоромы, в которых 17 сентября царь справлял уже новоселье в новой Передней избе. Потом в 1627 и 1628 гг. тот же Первуша Исаев выстроил новую брусяную Столовую избу. 23 ноября 1628 г. в ней, по обычаю, было также новоселье: царь угощал бояр обедом, а они на новоселье били ему челом, хлебом да солью, да парою или даже целым сороком собольих мехов, смотря по достатку[45 - Дворцовые разряды. СПб., 1850; Разрядная книга библиотеки П. Ф. Корабанова, разряды 7135–7137 гг.; Расходные книги Казенного приказа // Архив Оружейной палаты. № 912.]. Между тем как русский плотничий староста рубил государю новые деревянные хоромы, иностранный архитектор, палатный мастер Джон Талер, в 1627 г. возобновлял Сретенский собор и строил на сенях царицы новую каменную церковь во имя вмц. Екатерины на месте прежней деревянной, построенной в 1586 г. и сгоревшей в пожаре, о котором мы упоминали выше[46 - Впоследствии на верху этой церкви был устроен новый храм во имя св. Евдокии, освященный в 1681 г. во имя Словущего Воскресения.]. Вообще после этого пожара каменные постройки следуют одна за другою непрерывно. По указу государя собраны были в это время из Ростова, Суздаля, с Белоозера и других мест все каменщики и кирпичники «для многих церковных, дворцовых и полатных каменных дел»; вызван был также «Голандския земли немчин, кирпичный мастер Рудирик Мартыс», который в кирпичных сараях под Даниловскою слободою «делал кирпичную ожигальную печь и над печью деревянный шатер, по своему немецкому образцу, и кирпич делал»[47 - Расходные книги Казенного приказа // Архив Оружейной палаты. № 930, 1089.]. В 1613 г. каменных дел подмастерья Антипа Константинов да Трефил Шарутин выстроили на Кормовом дворце каменную поварню, на которую вода проведена была с Москвы-реки посредством водоподъемной машины. В 1633 г. часового и водовзводного дел мастер Христофор Галовей взвел воду с Москвы-реки в Свиблову башню, «а из башни тое воду провел на государев Сытный и на Кормовой дворец в поварни». С этого времени башня стала называться Водовзводною – от водяного взвода или машины, в ней устроенной и с таким удобством доставляющей тогда еще чистую и здоровую москворецкую воду на царский обиход. Ниже мы увидим, что посредством этой машины во дворце была устроена целая система водопроводов и водовзводов.
В 1635–1636 гг. государь выстроил для себя и для детей жилые или покоевые хоромы каменные, что в царском быту для того времени было новостью, потому что собственно для жилья всегда предпочитались хоромы деревянные, которым старые привычки не изменяли и впоследствии. Может быть, пожар 1626 г. понудил среди деревянных построек хотя одно жилье сделать более безопасным. Эти каменные хоромы были воздвигнуты на стенах старого здания, выстроенного еще Алевизом, именно над Мастерскою палатою и над палатами подклетными, которых ряд тянулся далее к церкви Рождества Богородицы. Прежде над этим подклетным этажом Алевизовской постройки между упомянутых двух приемных царицыных палат, Задней и Наугольной, т. е. Золотой Царицыной, стояли постельные деревянные хоромы, на месте которых и возведены теперь три новых этажа, под лицо с царицыными приемными палатами, с теремом наверху. Верхний этаж с теремом назначен был для малолетних царевичей Алексея и Ивана, что значится и в надписи, сохранившейся над входом доныне. Терем в то время назывался чердаком и каменным теремом, а в начале XVIII в. – золотым теремком, отчего и теперь все это здание называется Теремным дворцом. Все здание, таким образом, сохранило тип деревянных жилых хором и служит любопытным и единственным в своем роде памятником древнего русского гражданского зодчества. В его фасаде и даже в некоторых подробностях внешних украшений остается еще многое, что напоминает характер древних деревянных построек. Таковы, например, каменные ростески и рези в наличных украшениях окон; по рисунку они вполне напоминают резьбу из дерева. Но яснее всего характер деревянных построек, имевший такое влияние и на каменные, раскрывается во внутреннем устройстве здания. Почти все его комнаты, во всех этажах, одинаковой меры, каждая с тремя окнами, что совершенно напоминает великорусскую избу, до сих пор сохранившую это число окон. Таким образом, Теремный дворец представляет несколько изб, поставленных рядом, одна подле другой, в одной связи и в несколько ярусов с чердаком или теремом наверху. Сила потребностей и неизменных условий быта, среди которых жили наши предки, подчинила своим целям и каменное, довольно обширное строение, которое давало полные средства устроиться по плану более просторному и более удобному для жизни, по крайней мере по теперешним понятиям. Но само собой разумеется, что оно вполне отвечало тогдашним требованиям удобства и уютности, и мы будем несправедливы, если только со своей точки зрения станем рассматривать и осуждать наш старый быт и все формы, в которых он обнаруживал свои требования и положения. В 1637 г. эти новые каменные хоромы были отделаны окончательно: какой-то конюх Иван Осипов, по ремеслу златописец, наводил уже в это время сусальным золотом, серебром и разными красками на кровлю репьи «да в те ж хоромы, во все окна (опроче чердака, т. е. терема) делал слюденые окончины». В то же время, как строились эти хоромы (1635–1636 гг.), с восточной их стороны, над Золотою Меньшею палатою цариц, сооружен был особый домовый храм во имя Нерукотворенного Спасова Образа с приделом Иоанна Белоградского, тезоименитого царевичу Ивану. В древности, как мы видели, такие храмы, обозначаемые выражением что на Сенях, составляли одно из необходимейших условий каждого отдельного помещения в царском быту. Сенные, верховые храмы находились и на царицыной половине, также у царевен и у царевичей, почему и постройка нового храма в этой части дворца вызвана была единственно только новым отдельным помещением государевых детей. Площадка между Теремом и новою церковью образовала передний каменный двор, с которого лестница вниз вела на Постельное крыльцо и запиралась впоследствии золотою решеткою, отчего и церковь Спаса обозначалась: что за золотою решеткою. Необходимо упомянуть, что и Теремный дворец, и церковь Спаса строили русские каменных дел подмастерья, по-нынешнему архитекторы: Бажен Огурцов, Антип Константинов, Трефил Шарутин, Ларя Ушаков. В одно время с описанными постройками те же подмастерья выстроили над Куретными дворцовыми воротами новую каменную Светлицу, в которой должны были работать царицыны мастерицы, золотошвеи и белошвеи со своими ученицами. В последние три года своего царствования Михаил выстроил еще какие-то дворцовые палаты и устроил новые хоромы на Цареборисовском дворе для датского королевича Волдемара, за которого хотел выдать дочь свою Ирину[48 - Расходные книги Казенного приказа // Архив Оружейной палаты. № 930, 1089, 756, 957, 958, 979, 986, 792, 1073.].
Таким образом, царь Михаил в течение 32 лет своего царствования успел не только восстановить старый дворец, но и увеличил его новыми каменными и деревянными постройками, выраставшими по мере размножения царской семьи и развития потребностей быта, который, несмотря на силу предания, мало-помалу все-таки двигался далее, вперед, предваряя в некоторых, хотя и мелочных, отношениях приближавшуюся реформу. Его сыну, царю Алексею Михайловичу, оставалось немного дела в отношении основных сооружений. И действительно, в его царствование мы не встречаем особенно значительных построек на царском дворе. Он возобновлял большею частию старое, переделывал и украшал по своей мысли здания, построенные предками или его отцом. В первое время, когда ему было всего 17 лет, в 1646 г., т. е. спустя год по смерти отца, он построил себе новые Потешные хоромы, которые тогда срубил дворцовый плотник Васька Романов. Из других построек упомянем о более значительных. Так, в 1660 г. была возобновлена дворцовая палата, построенная, может быть, при Михаиле, в которой помещался Аптекарский приказ и Аптека. Каменных дел подмастерье Вавилка Савельев делал в ней окна и двери и под старые своды подводил новые своды, а знаменщик, т. е. рисовальщик, Ивашка Соловей писал стенное письмо. Палата эта стояла недалеко от церкви Рождества Богородицы[49 - Архив Оружейной палаты. 7168. № 1015.]. В 1661 г. вместо старой Столовой избы государь выстроил новую и великолепно украсил ее резьбою, золоченьем и живописью в новом заморском вкусе, по вымыслу инженера и полковника Густава Декенпина, который под именем вымышленика выехал к нам в 1658 г.[50 - Там же. № 1013, 7166 г; № 1082 и 1020.] Резные, золотильные и живописные работы исполняли уже в 1662 г. также иноземные мастера, большею частию поляки, призванные в Москву во время польской войны, именно резчики, вырезавшие окна, двери и подволоку (плафон): Степан Зиновьев, Иван Мировской с учениками, Степан Иванов и живописцы: Степан Петров, Андрей Павлов, Юрий Иванов. В том же 1662 г., апреля 1-го, на именины царицы государь справил широкое новоселье в этой Столовой[51 - Дополнения к т. III Дворцовых разрядов. СПб., 1854. С. 327.]. Подобным же образом была украшена и новая Столовая царевича Алексея Алексеевича, построенная в 1667 г. В 1668 г. ее расписывали живописцы Федор Свидерский, Иван Артемьев, Дорофей Ермолин, Станислав Куткеев, Андрей Павлов; а резали ученики упомянутых выше мастеров, из которых Иван Мировский размеривал для резьбы и живописи подволоку[52 - См.: Расходные книги // Архив Оружейной палаты. № 382, 384.]. Так же впоследствии украшены были и новые постельные хоромы, выстроенные царем в 1674 г. На трех плафонах этих хором государь велел написать притчи пророка Ионы, Моисея и о Эсфири. В 1663 г. каменных дел подмастерье Никита Шарутин починил на дворце, в Верху у государя, соборную церковь Спаса Нерукотворенного Образа и трапезу сделал наново. Без сомнения, трапеза была распространена против прежней, потому что домовый храм Спаса при царе Алексее, жившем в теремных покоях, стал соборным и в этом значении заменил для царского двора древние соборы Спасо-Преображенский, Благовещенский и Сретенский. Около того же времени, вероятно, произведены были переделки и возобновления в теремном здании. В 1670 г. Передний верхний двор, или площадка, находившаяся между этими покоями и церковью Спаса, была украшена медною вызолоченною решеткою, запиравшею вход с лестницы, которая вела в Терем с Постельного крыльца. Любопытно, что эта прекрасная решетка, сохранившаяся и доныне, была перелита из медных денег, выпущенных перед тем в народ и наделавших столько неудовольствий, убытков, смут и казней[53 - См. в столбцах Архива Оружейной палаты: память о присылке плавельщиков медного дела, Ивашки Казаринова с товарищи, для плавления медных денег к государеву хоромному делу на медные решетки, 15 ноября 7178 г.].
В 1672 г. над приказом Аптекарской палаты в палатах был устроен театр, в котором с осени того же года магистр Яган Годфрид исправлял комедию, или комедийное действо, со своею труппою, которую составляли 26 чел. комедиантов, мещанских детей[54 - Временник Общества истории и древностей российских. Кн. 24.]. С этого времени делается известным Потешный дворец как новое, особое отделение царского дворца, заменившее упомянутые Потешные хоромы и в особенности Потешную палату, существовавшую до того времени в государевых каменных хоромах – именно в подклетном этаже теремного здания, под переднею, третьею и четвертою[55 - Расходные записки приказа Тайных дел 1670 г.]. Основанием этому дворцу, по всему вероятию, послужили палаты Аптекарского приказа, стоявшие, как мы упомянули, неподалеку от церкви Рождества Богородицы. По смерти царского тестя Ильи Даниловича Милославского в 1668 г. его двор с домовым храмом Похвалы Богородицы, находившийся рядом с Конюшенным государевым дворцом и подле этих палат, поступил также в число царских хором и был соединен с ними от Рождественской сенной церкви деревянными переходами, устроенными в 1669 г. Этот двор вместе с Аптекарскими палатами составил дворец Потешный, на котором в 1671 г. перекинуты были еще новые переходы от Оружейной палаты[56 - Местность этих последних переходов указывается следующею заметкою Расходной книги Оружейного приказа 1679 г. Там между прочим сказано: «Мастеровые люди делали и тесали кирпич дубовый в проходных сенех (что меж Оружейною палатою и Выборною и что ходят на Потешный двор), на пол, для государского шествия» (Архив Оружейной палаты. № 248). Позднейшие известия прямо указывают, что Аптека помещалась подле упомянутых переходов. В журнале Оружейной палаты 1727 г. ноября 13-го записано между прочим: «В Москве Потешный двор и на дворце, начав от переходов, полаты, в которых преж сего бывали Аптека, Оружейная и прочие все рядом перевесть в иные места».]. Ко времени царя Алексея Михайловича можно отнести и постройку церкви Спасова Нерукотворенного Образа на сенях у царевен, сестер государя – Ирины, Анны и Татьяны, хоромы которых стояли позади дворца, у Куретных ворот, находившихся со стороны Троицкого подворья и Троицких кремлевских ворот. Церковь эта существовала уже в 1669 г., когда по случаю смерти царицы Марьи Ильичны государь подал в нее сорокоуст для поминовения царицы. Она именовалась в это время: Спас, что словет Новая церковь; Спас Новая церковь, что у Троицкого подворья; также Спас у Царевен на Сенях. После стали ее обозначать: что у Куретных ворот, что над Куретными воротами.
В истории государева дворца царствование Алексея Михайловича замечательно более потому, что с этого времени в царский дворец вошло много разных улучшений, которые дотоле или весьма мало, или даже вовсе не были известны. Важные последствия в этом отношении принесла польская война 1654–1667 гг., когда царь сам лично «поволил итти на недруга своего и супостата, польского и литовского короля Яна Казимера, за его многие неправды и за крестопреступление». Счастливое начало этой войны довольно известно. Войска, воодушевляемые личным присутствием царя, взяли – кроме многих других, менее значительных городов – Смоленск, Витебск, Могилев, Полоцк, Вильно, Ковно, Гродно; пребывание царя в некоторых из этих городов, и особенно в Вильно и Полоцке, познакомило его с образом жизни совершенно новым. По свидетельству Коллинса, царь с этого времени стал преобразовывать двор, завел даже театр, как мы упоминали. Вызвав из всех посещенных им городов многих ремесленников и художников, он употребил их искусство и труды особенно на украшение своего дворца, для чего и причислил их всех к замечательному в то время дворцовому художественному и ремесленному заведению, известному более под именем Оружейной палаты, из которой они получали весьма достаточное содержание. Сверх того, государь отдал им в науку русских учеников, которых они должны были выучить всему, что сами знают. С этого времени характер украшений дворца во многом изменился. Внутри дворца появились обои (золотые кожи) и разного рода мебель на немецкий и польский образцы. Характер резьбы по дереву, столько употребительный во всех внутренних и внешних украшениях дворца, также изменился. Обыкновенную русскую резьбу по одной только поверхности дерева заменила фигурная немецкая резьба во вкусе немецкого рококо, как можно судить по дошедшим до нас памятникам из домашней утвари того времени.
По смерти Алексея Михайловича продолжателем всех его начинаний в отношении устройства и украшения дворца в новом характере был сын его, царь Федор, который в недолгое царствование, продолжавшееся с небольшим 6 лет, по выражению надписи на его портрете, преизрядчо обновил дворец и расширил новыми постройками. Новые отделения во дворце были необходимы. Царь Алексей Михайлович оставил после себя многочисленное семейство, которое еще при нем требовало более обширного помещения. По вступлении же на престол сына его Федора, занявшего жилище своего отца, потребовалось отделить особые хоромы для вдовствующей царицы Натальи Кирилловны с малолетним ее сыном – царевичем Петром. Поэтому замышляли, по проискам сторонников царевны Софьи и родичей дома Милославских, выселить царицу с царевичем Петром из старого ее помещения, находившегося возле Теремного дворца с северной его стороны, на внутреннем или Заднем дворе дворцовых зданий. 26 октября 1677 г. уже последовал царский указ построить царице и царевичу новые хоромы на месте двора боярина Семена Лукьяновича Стрешнева[57 - «186 г. (1677 г.) октября в 26 д. по указу великого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича (т.) велено построить хоромы государыни царицы и великой княгини Наталии Кирилловны и государя царевича и великого князя Петра Алексеевича – на дворе, что был двор боярина Семена Лукьяновича Стрешнева». (Книги приемные лесным запасам.)]. Этот двор, занимавший 104 сажени в окружности, находился подле Конюшенного Патриаршего двора и примыкал с одной стороны к Троицкому подворью, а с другой – к житницам, стоявшим на Хлебенном государевом дворце. Он был удален от Теремного дворца более чем на 50 саж. Однако царица не согласилась на переселение и осталась на своем старом месте. Крекшин рассказывает, что царевич Петр сам ходил к царю-брату жаловаться на нового Годунова, боярина Языкова, который старался устроить это переселение[58 - См. наши «Опыты изучения русских древностей и истории». Ч. 1. М., 1872. С. 48–49.]. После того на стрешневском месте были выстроены сначала деревянные, а потом каменные хоромы для царевен, а затем и для вдовствующей супруги царя Феодора Марфы Матвеевны. Новые хоромы, построенные на этом месте, примкнув к Патриаршему двору, соединили сенные церкви Екатерининскую и Евдокеинскую и вообще нынешний Терем с хоромами царевен возле Троицкого подворья. Потом, в 1680 г., государь как для себя и своей супруги, так и для своих сестер, Меньших и Больших царевен, выстроил новые деревянные хоромы вместо старых, которые были разобраны. Государевы хоромы стояли у терема подле западной стены Евдокеинской теремной церкви; сюда же перенесены были и хоромы царицы, и перед хоромами был разведен комнатный сад, а дальше, как упомянуто, тянулся ряд хором царевниных, тоже с садом. На сенях у царевен, кроме перестройки их хором, государь возобновил церковь Спасова Нерукотворенного Образа и построил над ее трапезою новый храм во имя Успения Богоматери, освященный в день Успения, 15 августа 1680 г. В 1681 г. государь выстроил для своего брата Ивана Алексеевича также новые деревянные хоромы.
В то же время (с 1677 г.) царь Федор Алексеевич обновил и свой каменный верхний терем со всеми церквами, которые находятся на сенях этих хором в связи с собором Спаса Нерукотворенного. Возобновлен был также и этот собор и расписан снаружи, со стороны алтарей, аспидом розными цветами (под мрамор). Над приделом Иоанна Белоградского (ныне Иоанна Предтечи) он надстроил небольшой придел в честь Распятия, украсив его медным вызолоченным иконостасом. Потом, в 1679 г., среди верховых церквей, между храмом Св. Евдокии (который в 1681 г. освящен был во имя Живоносного Воскресения) и между придела во имя Иоанна Белоградского, государь повелел устроить Голгофу, где быть Страстям Господним. В узком коридоре, который разделяет эти церкви, живописец Дорофей Ермолаев сделал алебастровый свод, или пещеру, которую ученики его расписали черепашным аспидом, т. е. под мрамор. В этой пещере, на каменной горе, расписанной также красками, поставлено было на большом белом камне кипарисное Распятие, сохранившееся, кажется, и доныне и вырезанное рельефно старцем Ипполитом – искуснейшим резчиком того времени. Пещера эта была украшена алебастровыми колоннами, на тумбах и наверху с гзымзом; посреди этих колонн, против Голгофной горы, поставлена была плащаница, или Гроб Господень, над которым висели на проволоках 60 алебастровых херувимов, расписанных красками по подобию, с золоченными по гунфарбе нетленными венцами и крыльями (240 крыл). Около Гроба Господня висели также 12 стеклянных лампад, а у стен стояли живописные картины, изображавшие евангельские притчи: Сошествие во ад, Воскресение, Вознесение и «Христос явися Марии Магдалине». Эти картины, писанные на полотнах живописцем Иваном Салтановым, вышиною были по 3 арш., шириною в свету по 1
/
арш. В 1681 г., 12 декабря, государь повелел устроить между новою церковью Распятия и своих деревянных комнат в особой небольшой каменной палатке Вертоград с Господним Гробом. Своды и стены этого Вертограда поручено было обделать мастеру Степану Заруцкому «из алебастроваго камени, цветные, с розными краски». Окончить это дело государь назначил к 10 апреля 1682 г., почему для поспешенья работали даже по ночам, но тяжкая болезнь и потом преждевременная смерть царя (27 апреля), вероятно, остановили и, может быть, совсем прекратили постройку этого Вертограда, потому что в последующее время о нем уже вовсе не упоминается. Церковь Распятия возвышалась в уровень с кровлею Грановитой палаты, так что к ее алтарю был ход с этой кровли.
С другой стороны теремов в 1681 г. перед четвертою теремною комнатою было устроено такое же крыльцо, какое находилось перед Переднею на Каменном дворе. Перед крыльцом была выровнена площадь и на ней поставлены для государя брусяные хоромы в длину 7 саж., поперек 6 саж., на каменных стенках вместо подклетов вышиною в 4 арш. Под четвертою же комнатою в подклете была устроена мыленка. Затем перестроена была церковь Рождества Богородицы. К ней приделали новую трапезу; собрали с нее главы и по сводам выверстали площадь наравне с площадью, которая находилась у терема под новыми хоромами; на этой площади, устроенной таким образом над церковью и над трапезою, построили новый пятиглавый храм во имя Сошествия Святого Духа с небольшим приделом с северной стороны. В этой же местности были произведены и другие перестройки. В 1679 г. государь возобновил также церковь Похвалы Богородицы на новом Потешном дворе, здание которого, сохранившееся доныне, было построено в это же время.
Из больших палат в 1681 г. были возобновлены две набережные: Ответная и Панихидная; последнюю, в которой оказались трещины, связали с лица кругом железными связями; внутри также положили проемные связи; внизу, где тогда же устраивался из старого новый Набережный Нижний Красный сад на особом каменном здании, к этому зданию со стороны Тайницких ворот для подкрепления Панихидной палаты подведен был каменный бык, или контрфорс. Столовая изба и при ней сад, между Средней Золотой и алтарями Спасо-Преображенского собора, были разобраны и на их месте выровнена площадь. Столовая была перенесена в возобновленную Панихидную палату, которая и именовалась с этого времени Столовою. Между церковью Иоанна Предтечи и Колымажными дворцовыми воротами в двух палатах, где были Резные и Столярные палаты, перенесенные в другое место, помещена царская аптека. Потом возобновлены были все палаты Сытного, Кормового и Хлебенного дворцов, по линии от Колымажных до Куретных дворцовых ворот, где теперь Кавалерские корпуса, и построены Новые портомойни в длину на 11 саж., поперек на 3 саж.
По смерти Федора Алексеевича, в ноябре 26-го числа 1682 г., часть обновленного им дворца, примыкавшая ко двору патриарха, сделалась жертвою пожара: сгорели деревянные хоромы царя Петра Алексеевича и хоромы царевен; потом занялся и Успенский собор, на котором сгорела кровля и в главах оконницы, так что все значительные иконы и мощи чудотворцев вынесены были в это время на случай опасности в Архангельский собор[59 - Древняя Российская вивлиофика. Т. X. 1775. С. 94. По случаю этого пожара для временного помещения царевен и вдовствующей царицы Марфы Матвеевны были выстроены деревянные хоромы с теремом наверху на Потешном дворе, где они и жили до постройки их новых хором на старом месте.]. В 1683 г. на месте погоревших хором выстроены были для царя Петра и его матери царицы Натальи Кирилловны деревянные хоромы, а для царевен Софьи, Екатерины, Федосьи и др., живших после пожара на Потешном дворе, каменные палаты о трех житьях, т. е. этажах, из которых в нижнем была устроена комната, где сидеть с бояры – слушать всяких дел: явление по тому времени не «совсем обыкновенное на женской половине царского дворца, и особенно на половине царевен, но весьма понятное, если мы скажем, что эта думная комната устроена была по назначению царевны Софьи Алексеевны. В одно время с этими палатами в 1684 г. построена на Кормовом дворце, возле новых хором царя Петра[60 - На поле рабочего экземпляра автором замечено: «Матер. Москв. I, 1013». См.: Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы… собранные и изданные руковод. и трудами Ивана Забелина. Ч. I. М., 1884, 1013, где указывается, что святой патриарх ходил к царю Петру Алексеевичу и царице Наталии Кирилловне «на новоселья в новые деревянные хоромы» 5 апреля 194 (1686) г. – Ред.] и его Верхнего Красного сада, новая церковь во имя святых апостолов Петра и Павла, тезоименитых царю. В июне того же года велено было написать в эту церковь местные пророческие и праотеческие иконы и сделать иконостас, позолотив его сусальным золотом.
В 1682 г. на площадке между теремами и церковью Сошествия Святого Духа выстроены для царей новые Брусяные хоромы, а в 1683 г. сделаны Брусяные хоромы и две избушки для царевен больших. В 1683 г. в Меньшей Золотой палате для подкрепления Верхоспасского собора под своды подведены были крестообразно каменные перететивья, которые хотя и обезобразили эту древнюю палату, но зато сберегли ее от неминуемого разрушения; потом в палатах Грановитой, Золотой Средней, Ответной и других исправлены все ветхости и возобновлено также Красное крыльцо. О многих других незначительных поновлениях и постройках не станем здесь упоминать, потому что это относится уже к полной истории дворца и не может войти в тесные пределы, назначенные для нашего очерка.
В конце XVII столетия пред единодержавием Петра дворец достиг самого цветущего состояния, до какого не достигал он ни в одно из предыдущих царствований. В это время его обширность и относительное великолепие вполне выразили характер древней царской жизни во всем ее блеске и царственном просторе, и с этого же времени начинается постепенное его запустение и разрушение. В год смерти последнего старинного московского царя Ивана Алексеевича, в то время, как Петр работал под Азовом, 6 июня 1696 г., на дворце сгорели государевы хоромы: выгорело все без остатка, по свидетельству Желябужского. В 1701 г., 19 июня, новый пожар опустошил весь Кремль. В тот день, как записал один современник, «в 11 часов в последней четверти волею Божиею учинился пожар в Кремле-городе, загорелись кельи на Новоспасском подворье, что против задних ворот Вознесенского монастыря. И разошелся огонь по всему Кремлю, и выгорел Царев двор весь без остатку: деревянные хоромы и в каменных все нутры, и в подклетах и в погребах запасы и в ледниках питья и льду много растаяло от великого пожара, ни в едином леднике человеку стоять было невозможно; и в каменных сушилах всякие запасы… и Ружейная Полата с ружьем; и Мастерские Государевы полаты… святые церкви, кои были построены вверху и внизу в государеве доме, кресты и кровли и внутри иконостасы, и всякое деревянное строение сгорело без остатку… И набережные государевы полаты, и верхние и нижние, кои построены в Верхнем Саду, выгорели… И все государевы Приказы и многие дела и всякая казна погорела… Кто ни был живущие в Кремле, все без остатку погорели…». Старина истреблялась старым же ее губителем – пожаром, от которого теперь особенно пострадал Задний государев двор, большею частию жилые и служебные постройки, именно Теремный дворец, каменные хоромы царевен и все здания, прилегавшие к Патриаршему двору и к Троицкому подворью; также деревянные хоромы, стоявшие подле Терема, и большой корпус с дворцами Сытным, Кормовым и Хлебенным. Хотя каменные здания и были возобновлены, но погорелые их стены не были уже столько прочны, так что через полстолетие пришли в совершенную ветхость и были разрушены по необходимости прежде других старинных зданий. Живые следы этого пожара в дворцовых зданиях оставались еще и в 1722 г.
* * *
Расположение дворца, сохранив первоначальные древнейшие черты, получило в XVII столетии при увеличении царского семейства более широкие размеры. Мы уже имели случай заметить, что все здания государева дворца соответственно их назначению составляли три особые отделения: постельные, или жилые, хоромы, палаты, или парадные залы и, наконец, все здания, в которых помещались различные заведения царского хозяйства. Во второй половине XVII столетия жилые летние покои государя находились в нынешнем Теремном дворце, а зимние – в деревянных хоромах, стоявших подле Терема, одни у церкви Рождества Богородицы, другие у церкви Живоносного Воскресения; с этой же восточной стороны Терема в разных местах стояли деревянные хоромы цариц и царевичей и больших и меньших царевен. Большие палаты, Грановитая, Золотая и др. примыкали к площади между соборами, а все хозяйственные здания расположены были в разных местах вокруг дворца, так что весь юго-западный угол Кремля – от Тайницких и до Троицких ворот – занят был дворцовыми строениями. Точное определение местности различных зданий царского дворца представляет величайшие затруднения по недостатку древних чертежей. Чертежи, хотя и деланные обыкновенно от руки, по глазомеру, составлялись и в то время по случаю каждой постройки, а тем более значительной, каковы были каменные палаты и другие подобные здания. Есть свидетельство, что в 1686 г. составлялся общий чертеж всему дворцу, «всем государским хоромам, палатам и всяким зданиям, которые в Кремле на их государском дворе». К сожалению, этот чертеж не сохранился или, по крайней мере, неизвестен нам. Недавно мы получили возможность воспользоваться копиями с чертежей, составленных в 1751 г. Эти копии, не имеющие, однако, подробной описи, принадлежат ныне Историческому музею и представляют драгоценнейший памятник кремлевской дворцовой старины, который во многом с точностью выясняет, отчасти исправляет, отчасти подтверждает прежние наши разыскания по этому предмету.
Пользуясь этими чертежами, а также напечатанными нами в первом томе «Материалов для истории, археологии и статистики города Москвы» (М., 1884) описями дворцовых зданий XVIII столетия, мы можем представить теперь более обстоятельное обозрение старинного расположения зданий дворца во всем их составе, но, как и прежде, ограничимся указанием только главных частей. Как и прежде было сказано, лицевая сторона дворца выходила на площадь между соборами, которая, подобно площади Китай-города, также иногда именовалась Красною (Дворцовые разряды. Т. III. С. 1973). На эту действительно замечательную площадь дворец выдвигался самою большою и красивою из своих палат – Грановитою палатою с лестницею возле нее, которая вела на Красное крыльцо и Передние переходы, простиравшиеся от угла Грановитой палаты до паперти Благовещенского собора. В глубине между палатою и собором на средине переходов стояла Золотая Средняя палата, к которой прямо к дверям ее сеней вела с площади другая лестница – средняя, известная в конце XVII столетия под именем Золотой лестницы и Золотой решетки (Дворцовые разряды. Т. I. С. 99, 639; Т. III. С. 17, 85). Третья лестница, приводившая на те же переходы Красного крыльца, находилась в паперти Благовещенского собора и прозывалась Благовещенскою.
Само собою разумеется, что верхние жила, т. е. чердаки и терема, строились легче нижних ярусов и обыкновенно ставились на стойках или столбах, забирались брусьями или нетолстыми бревнами и обшивались тесом взакрой или вкосяк.
Тем же почти способом устраивались и сени. Они ставились также на стойках или подставках и обвязывались тесом с брусьями. Двухъярусные сени ставились на лежнях на подборе бревнами; подбирать – значило ставить бревна в стену стоймя, что также называлось забирать в столбы; так обыкновенно устраивались сени исподние, или подсенье; верхний ярус забирался досками вкосяк. Чуланы в сенях забирались тесом взакрой. Крыльцо в малых клетях устраивалось на выпускных бревнах; в больших – на подрубах. Лестницы клали на тетивах, в которых вставлялись ступени, обшиваемые тесом. Смотря по высоте клети, лестницу всегда переламывали, т. е. делали с отдыхами и по сторонам почти всегда опериливали, т. е. делали поручни или перила с балясами или решетками. В больших хоромах перед лестницею взрубали рундук на один, на два и на три всхода о трех или более ступенях. Рундук почти всегда покрывался шатриком на точеных столбах, который подбирался тесом вкосяк.
Около двора заметывали замет или заплот, т. е. забор. В достаточных дворах забор рубили из бревен в лапу и в замок, скоблили на оба лица, приводили в черту, чтоб щелей и в углах дыр не было. Забор красился воротами, которые устраивались на столбах или столбцах и связывались в один щит, а в достаточном хозяйстве делались створчатые из двух щитов, с калиткою; а нередко и тройные, т. е. с двумя калитками, обшивочные, т. е. обшитые тесом. Почти всегда ворота покрывались тесовою кровлею с полицами, а на князьке украшались резным гребнем или же небольшими бочками и шатриками. По уборке и отделке ворот всегда можно было судить о достаточности хозяина, ибо двор красился воротами, изба – углами, т. е. внутренним нарядом, хоромы – теремом.
Этих подробностей, которые все, до слова, заимствованы нами из строильных записок XVII столетия (начиная с 1614 г.), весьма достаточно для того, чтоб дать понятие о старинном плотничном деле, а главное, о том, что оно и до сих пор держится на тех же способах и приемах, какие, без сомнения, употреблялись еще в первые века нашей истории. Все плотничные термины сохраняются до сих пор; их почти вовсе не коснулась немецкая, вообще иноземная техника, и самое производство существует без всяких пособий со стороны ученых архитекторов, которые в отношении языка техники, если б захотели, многое могли бы заимствовать из этого родного и, следовательно, наиболее для всех понятного источника родных же слов и названий.
Выше мы представили общие, типические черты старинных деревянных построек вообще в Древней Руси, и особенно в Московской стороне. Эти же самые черты, только в более широких размерах, повторяются и в хоромах московского великого князя. Мы упоминали уже о набережном тереме, средней горнице, столовой гридне и повалушах. По этим названиям можно судить и о прочих частях великокняжеских хором: они были совершенно сходны с описанными выше. Уклонения от общего характера были весьма незначительны и условливались теми требованиями, которые вытекали собственно из жизни великого князя как государя всея Руси. Вообще великокняжеские хоромы – как древнейшие, так и строенные во времена царей сообразно назначению их в домашнем быту государя – можно рассматривать как три особых отделения. Во-первых, хоромы постельные, собственно жилые, или, как называли их в XVII в., покоевые. Они были не обширны: три, много – четыре комнаты в одной связи служили весьма достаточным помещением для государя; одна из этих комнат, обыкновенно самая дальняя, служила постельною, опочивальнею, ложницею; подле нее устраивалась крестовая или моленная; другая имела значение теперешнего кабинета и называлась собственно комнатою, и, наконец, первая по входе именовалась переднею, но не в таком смысле, в каком употребляется это слово теперь: эта передняя была собственно приемною; нынешней же передней в древности соответствовали сени, которые в государевых хоромах почти всегда были теплые. Эти сени перед переднею назывались обыкновенно передними сеньми. Точно такие постельные хоромы были, например, у царя Ивана Васильевича; они находились позади Средней Золотой палаты в связи с нею и заключали в себе передние сени, переднюю и две комнаты с прозванием: что слыл чердак (терем) государыни царицы Настасьи Романовны, потому что на верху их высился ее терем[21 - Дворцовые разряды. Т. I. СПб., 1850. С. 1152.]. Порядок, в каком комнаты следовали одна за другою, бывал различен; но обыкновенно они располагались так: передние сени, передняя, крестовая, комната четвертая (считая от передней) или задняя; наконец, сени задние. Иногда за переднею следовала комната, потом третья, четвертая, как было, например, в каменном Кремлевском Терему. Когда хоромы были в две комнаты, то за переднею следовала комната и потом комнатные или задние сени. Если в хоромах было более комнат, нежели сколько мы здесь поименовали, что, впрочем, случалось редко, то все эти комнаты не носили никаких особенных названий; их просто называли: третья, четвертая, пятая и т. д. или, смотря по местоположению, средняя, задняя, сторонняя и т. п. Иногда в комнатах устраивались чуланы, собственно для спальни, имевшие поэтому значение алькова. Вообще же чуланы и каморки, устраиваемые в комнатах и особенно в сенях, составляли вместе с подклетами обыкновенные принадлежности постельных хором. Сенник и мыльня, принадлежавшие также к постельным хоромам, соединялись с ними сенями или переходами; мыльня же часто помещалась в подклете. Верхний этаж таких хором составляли светлые чердаки или терема с частыми окнами, с гульбищами кругом всего здания, украшенные башенками, прорезными гребнями и маковицами.
Княгинина половина, хоромы государевых детей и родственников ставились отдельно от жилых хором государя и с небольшими изменениями во всем походили на последние.
Ко второму отделению государева дворца мы относим хоромы непокоевые, назначенные собственно для торжественных собраний. В них государь, следуя тогдашним обычаям, являлся только в важных торжественных случаях среди бояр и духовных властей. В них происходили духовные и земские соборы, приемы послов, давались праздничные и свадебные государевы столы – одним словом, это были в деревянных хоромах парадные залы, которым соответствовали разные палаты выстроенного впоследствии каменного дворца. Сообразно такому назначению хоромы этого отделения были обширнее прочих и стояли впереди хором постельных, которые помещались обыкновенно в глубине двора. Что же касается до названий, то эти хоромы не носили особенных имен, за исключением разве гридни, а были известны под общими именами Столовой избы, горницы и повалуши.
К третьему отделению принадлежали все хозяйственные дворовые постройки, службы, располагаемые почти всегда особыми дворами или дворцами, которым и давались названия, смотря по их значению в дворовом обиходе государя. Известны дворцы Конюшенный, Житный, Кормовой или Поваренный, Хлебенный, Сытный и пр. Что же касается до великокняжеской казны, заключавшейся обыкновенно в серебряных и золотых сосудах, дорогих мехах, дорогих тканях и тому подобных предметах, то великий князь, следуя весьма древнему обычаю, сохранял эту казну большею частию в споях и подвалах или подклетах каменных церквей. Так, из летописей узнаем, что казна великого князя Ивана Васильевича хранилась прежде в церкви Рождества Богородицы и Св. Лазаря, а казна его супруги, великой княгини Софьи Фоминичны, – под церковью Иоанна Предтечи на Бору, у Боровицких ворот[22 - Летописец 6714–7042. М., 1784. С. 297; Русский временник. Ч. 2. М., 1790. С. 169.].
Мы уже сказали, что правильного, симметричного плана в древних больших постройках не было, почему и дворец великокняжеский в своем расположении представлял огромную массу зданий, раскиданных без всякого соответствия в частях. Довольно полное и наглядное понятие о характере древних великокняжеских и царских жилых построек или хором дают описания загородных дворцов XVII столетия. Из них особенно любопытно описание Коломенского дворца потому именно, что сохранились его фасады и план, которые во многом могут пояснить описание. Считаем не лишним упомянуть об этом дворце как о типическом памятнике древних деревянных построек. План обнаруживает, что дворец заключал в себе несколько отделений или особых хором, соединенных между собою переходами и частию сенями; что постройка этих отделений происходила в разное время, смотря по надобности; что постепенно к старым пристроивались новые клети, избы, избушки, сени, крыльца, переходы, так что целое лишено всякой симметрии и того порядка в соответствии частей, к которому приучены теперешние вкусы строителей. Хоромы, крыльца, переходы разбросаны с мыслию не о правильности плана или о его красоте, а об удобствах, какие представлялись местом постройки или отношением и зависимостью этой постройки от других отделений дворца.
В лице всех построек с восточной их стороны стояли передние хоромы государевы, заключавшие пять комнат жилых, с отдельными сенями при каждом выходе: именно две впереди, в лице, передняя и комната, и три, составлявшие как бы особое отделение, назади, глубже во двор. Противоположно передней, дальше к северу, стояла обширная столовая. Она соединялась с комнатами посредством весьма обширных столовых сеней, над которыми в три яруса возвышались светлые чердаки или терема с открытыми галереями или гулбищами со всех четырех сторон. Кровля столовой была устроена кубом четвероугольным и на вершине украшена глобусом с изображением орла промежду льва и единорога, или инрога. Кровля двух передних комнат крыта бочкою с резным гребнем наверху и прапорцами или флюгерами. Задние комнаты с принадлежащими к ним сенями покрыты четырехскатною кровлею; над четвертою и пятою был светлый чердак – терем и шатровая кровля, дававшая строению вид башни, тем более что вершина ее была украшена двуглавым орлом. Над рундуками или отдыхами, площадками крыльца и над сеньми возвышались также стройные шатры. Все кровли крыты гонтинами в чешую. Высота этих шатровых строений или башен простиралась от 7 до 15 сажен. Нижний этаж хором занимали подклеты, в которых помещались кладовые, жилье для дворовых людей и для стрелецких караулов, находившихся: один – подле крыльца под передними комнатами; другой – подле ворот, под столовою.
Еще глубже во двор, за комнатами государя, стояли хоромы царевича с двумя комнатами и с теремами наверху, крытые двумя шатровыми кровлями в виде башен, соединенных в верхних чердаках переходцами. Далее, за хоромами царевича, стояла государева мыленка, а за нею оружейная и стряпущие избы. Из мыленки шла лестница вверх на сени царицыных хором, которые стояли лицом к северу, позади хором государевых, и заключали в себе три комнаты с обширными теремами наверху, крытые бочкою, и одну комнату также с теремами, крытую шатром в виде башни. Обширные передние сени этих хором были покрыты также шатром, а крыльцо – шатром с бочками.
Взади дворца, с западной стороны, размещены были четыре отделения хором больших и меньших царевен, каждое из трех комнат, с теремами наверху, с мыленками, стряпущими избушками и другими принадлежностями старого быта, крытые также шатровыми кровлями наподобие башен. Нижний этаж всех хором точно так же состоял из подклетов, которые служили помещением для дворовых людей, для кладовых и для стрелецких караулов.
Хоромы царевен соединялись длинными крытыми переходами с хоромами царицы и с церковью. Точно так же переходами соединялись и другие отделения коломенских хором.
Несмотря на то что Коломенский дворец построен в половине XVII столетия, он сохранил неизменно – и в плане, и в фасадах – все типические черты древнейших построек и потому, как мы упомянули, может служить характеристикою как древних, так и современных ему деревянных построек. В этом убеждают также планы и фасады и других царских и боярских хором, изданные в особом Сборнике при Записках Археологического общества. Отделение русской и славянской археологии, т. 2. Нет никакого сомнения, что таков, по крайней мере в общих и главных чертах, был и первоначальный Кремлевский дворец. Да и самые подробности не могли слишком уклоняться от общего типа, а тем более резко изменяться. Вкусы и потребности жизни в допетровской Руси в течение целых столетий были одни. Основною мыслью было жить так, как жили отцы и деды, по старине и по пошлине, что пошло исстари, как было при отцах, при дедах и при прадедах. И если прапрадедовский кафтан, переходя к праправнуку, нисколько не изменял своего покроя, то в отношении жилищ, в их постройке и устройстве еще неизменнее сохранились старые привычные порядки и предания, тем более что неизменны были потребности и общий склад жизни и быта, от которых вполне зависели и все материальные их формы.
Мы увидим, что и каменный дворец, построенный на месте деревянного итальянскими архитекторами в конце XV в., нисколько не уклонился от заветного типа. Вместо деревянных были построены те же, только более обширные, клети, гридни, горницы, названные палатами. Клеть, изба и здесь послужила неизменным типом, который не допустил связать в одно целое, в один общий цельный план особые комнаты нового дворца, каковы, например, приемные парадные и жилые покои. По-прежнему они были размещены, придерживаясь, без сомнения, старому основанию хором, отдельно, как размещались во дворах избы и клети, смотря по местному удобству и по неизменным требованиям и условиям тогдашнего быта, которые уже заранее указывали места для той или другой постройки. Старое оставалось даже и в названиях: так, нижние этажи каменных зданий по-прежнему именовались подклетами, хотя были всегда со сводами и только по своей местности соответствовали подклетам деревянных хором. Крыльца и при каменных палатах сохранили свое древнее значение хоромного крыла и ставились с совершенным подобием крыльцам деревянным, каково, например, было крыльцо и при Грановитой палате, названное Красным. Но что особенно напоминало древний характер хоромных строений – это переходы или открытые сени, которые и в каменном дворце, по отдельности разных палат и зданий, составляли такую же необходимость, как и в хоромах деревянных.
Мы сказали, что в конце XV в. на месте великокняжеского деревянного дворца воздвигнут дворец каменный. Мысль построить каменный дворец возникла вследствие новых потребностей, вызванных новым политическим положением московского государя. В конце XV в. великий князь Московский сделался самодержцем всея Руси; к Москве стали постепенно присоединяться разные области Древней Руси, жившие дотоле независимо, самобытно. Мысль о самодержавии Московского государя с каждым днем приобретала более силы, более сознательности, а с этим вместе совершенно другое значение получал и государев дворец в Москве. Прежние формы, прежние обряды быта великокняжеского становились уже недостаточными в жизни государя-самодержца. Сверх того, это новое государственное направление, только что возникшее в Москве естественным ходом ее истории, было приведено в полную сознательность и определенность с приездом в Москву греческой царевны Софьи Палеолог, с которою великий князь Иван Васильевич вступил в супружество. Последствия этого брака, имевшие важное значение в государственном отношении, не менее важны были и в частном быту московского государя: его двор и дворец с этого времени стали постепенно преобразовываться, заимствуя многое от угаснувшей Византии. Притом этот брак завязал самые тесные сношения Москвы с европейскими государствами; начались частые приезды иноземных послов, прием которых при новых политических отношениях Московского государя требовал большей церемониальности, большего великолепия; поэтому новый дворец, более обширный и более соответственный новым потребностям, был необходим. Вообще исход XV в. составляет блестящую эпоху не только в истории государева дворца, но и в истории всего Кремля, который, по мнению некоторых иностранных путешественников XV и XVI вв., составлял собственно дворцовую крепость. Никогда – ни прежде, ни после – не было в Кремле такой напряженной деятельности в поновлениях и постройках. Соборы и церкви, палаты государевы, городские ворота, стены, стрельницы, башни с тайниками – все это быстро воздвигалось при помощи итальянских зодчих, нарочно для того вызванных, и не более как в 20 лет наружность Кремля совершенно изменилась. На месте прежних деревянных зданий были уже новые, каменные, более обширные, красивые и более прочные. Зубчатые стены со стрельницами, окруженные глубокими рвами, придавали Кремлю грозный, величественный и красивый вид, который еще с большею яркостью обрисовывался на темном грунте деревянных построек тогдашней Москвы и на зелени ее многочисленных садов или, правильнее, огородов, находившихся почти при каждом доме.
Великий князь Иван Васильевич начал постройку нового каменного дворца с церкви Благовещения, что на Сенях, воздвигнутой еще при великом князе Василии Дмитриевиче. В 1484 г., разрушив дедовскую постройку, он заложил новую, на каменном подклете, который обложил казною, т. е. палатами для своей казны. Сверх того, с восточной стороны этой церкви, между нею и Архангельским собором, заложил кирпичную палату также с казнами и с большим белокаменным погребом, известную впоследствии под именем Казенного двора. Таким образом, не нарушая древнего обычая, великий князь и в каменном дворце устроил свою казну подле церкви. Почти в то же время, в 1487 г., с западной стороны Благовещенского собора, на великокняжеском дворе, вероятно, на том месте, где был набережный златоверхий терем при Дмитрии Донском, – фрязин Марко Руф заложил каменную палату, которая, быть может, относительно Большой Грановитой называлась малою, а также набережною[23 - Карамзин отнес 1487 г. к заложению Грановитой палаты, которая была окончена постройкою в 1491 г. Последующие описатели кремлевских древностей повторяли слова историографа. Но в летописи под 1487 г. сказано, что Марко Фрязин заложил палату на дворе великого князя, где терем стоял, а под 1491 г. упомянуто о совершении большой палаты на площади. Основываясь на этом различии местности на дворе и на площади и припомнив древний Набережный терем, мы должны были отнести 1487 г. к заложению не Грановитой, а Набережной палаты. Выражение большая палата указывает, что существовала малая. Малая палата, именно Набережная, упоминается в 1490 г. по случаю приема цесарского посла Юрия Делатора; следовательно, еще до совершения Грановитой она служила уже приемною. В первое время Грановитая палата именовалась только Большою. – Памятники дипломатических сношений. Т. I. С. 26; Карамзин Н. М. Указ. соч. Т. X. Примеч. 111.]. В августе 1489 г. Благовещенская церковь на государевых Сенях была уже освящена. Между тем постройка каменных зданий на дворе великого князя продолжалась. В 1491 г. Марко Руф и Петр Антоний выстроили на площади большую палату, которая сохранилась до нашего времени под именем Грановитой. Эта палата как передний приемный покой дворца заменила древнюю гридню, а в царском быту получила значение главной церемониальной залы. В 1492 г. апреля 5-го великий князь, переехав со всем семейством из своего старого двора в новые хоромы князя Ивана Юрьевича Патрикеева, стоявшие против церкви Иоанна Предтечи на Бору, повелел свой «старый деревянный двор разобрать и нача ставити каменный двор». Между тем в то же время он велел поставить себе свой собственный двор за Архангельским собором, деревянный, в котором временно намеревался поселиться. Но это начало постройки каменного дворца было не совсем благополучно. 28 июня 1493 г., в воскресенье утром, случился один из тех страшных, опустошительных пожаров, которые бывали довольно часто в древней столице и которые истребляли деревянные ее постройки почти каждый раз с конца в конец. Загорелось за Москвою-рекою, и при ужаснейшей буре в один миг «нечислено нача горети во мнозех местех». В Кремле прежде всего загорелся новый деревянный двор великого князя (Патрикеевский) у Боровицких ворот, в котором он только что поселился. Потом занялись житницы под горою, на подоле Кремля; оттуда новый двор великого князя за Архангельским собором; и все это место с другими близлежащими частями Кремля выгорело дотла. Летопись, описывая этот пожар, говорит в заключение, что «по летописцам и старые люди сказывают, как Москва стала, таков пожар не бывал». Великий князь выехал из опустошенного Кремля на Яузу, к Николе Подкопаеву; поселился на крестьянских дворах и стоял там до ноября, когда и переехал в Кремль, в новые хоромы, выстроенные для него на пожарище. Опустошение, произведенное этим пожаром, было чувствуемо долго. В несколько часов Москва превратилась в огромное пепелище; жители остались без имущества, без крова; более 200 чел. погибли в пламени. При таких обстоятельствах великому князю вовсе нельзя было думать о сооружении нового каменного дворца: нужно было прежде всего обстроить город, помочь его жителям, которые все более или менее пострадали от пожара… Точно так и было. Летописи этого времени не говорят ни о каких значительных постройках – ни в самом Кремле, ни на дворе великого князя. Напротив, в них находим известие об одних только распоряжениях великого князя, касавшихся более городского благоустройства. Еще после пожара, случившегося в Кремле в этот же 1493 г. весною, великий князь велел очистить от строений и церквей Занеглименье, близость деревянных построек которого всегда угрожала Кремлю и на этот раз, вероятно, была причиною его опустошения. Несмотря на жалобы и неудовольствия некоторых лиц, все хоромы и церкви отнесены были от Кремлевской стены на расстояние 110 сажен. После июльского пожара, который начался за Москвою-рекою, великий князь велел также очистить от строений часть Замоскворечья, лежавшую против Кремля, и в 1495 г. развел там сад, называвшийся в XVII столетии государевым Красным садом и Царицыным лугом.
К сооружению каменного дворца приступили не прежде как через 6 лет после описанного пожара. В 1499 г. великий князь снова заложил[24 - На поле рабочего экземпляра против этих слов добавлено: «на старом месте». – Ред.] «двор свой камен, полаты каменныя и кирпичныя, а под ними погребы и ледники, да и стену каменную от двора до Боровицких ворот». Постройка поручена была новому итальянскому зодчему, «Фрязину Алевизу, от града Медиолама». Но великий князь не дождался окончания этих палат, на которые положил столько горячих забот и трудов; в 1505 г. он умер. Дворец был готов через три года после его смерти, и в мае 1508 г. сын его Василий переехал на житье в эти новые хоромы. Достойный преемник всех начинаний своего отца, особенно в отношении новых построек, великий князь Василий Иванович, довершив неоконченный дворец, великолепно украсил его вместе с церковью Благовещения на Сенях, которую «повелел (1508 г.) подписали золотом, иконы все: деисус, праздники и пророки, обложили серебром и златом и бисером, и верх церковный покрыть и позлатить». Сверх того, он воздвиг на старых местах две новые каменные церкви: одну – в 1514 г. во имя Рождества Богородицы на Сенях, с приделом Св. Лазаря[25 - Каменная церковь Рождества Богородицы построена в 1393 г. супругою Дмитрия Донского – великой княгиней Евдокиею на месте малой деревянной церквицы Св. Лазаря, которая вошла в новопостроенную как ее придел (Карамзин Н. М. Указ. соч. Т. V. Примеч. 254).], и другую – в 1527 г. во имя Спасова Преображения, на дворце, т. е. посреди своего двора, также с приделами. В 1516 г. великий князь, распространяя хозяйственные постройки, выкопал по течению Неглинной, за Боровицкими воротами, пруды и поставил каменную мельницу[26 - ПСРЛ. Т. III. С. 198.].
Расположение каменного первоначального дворца весьма трудно определить с тою точностью, которая могла бы удовлетворить наше любопытство. Немного мимоходных кратких указаний на разные палаты этого дворца дают весьма сбивчивое понятие о его составе. Более всего в этом отношении замечательна и в высшей степени любопытна дополнительная статья к свадебному разряду великого князя Василия, бывшему в 1526 г., т. е. спустя 18 лет после постройки дворца[27 - Дополнения к Актам историческим. Т. I. СПб., 1846. № 24. Роспись, кому где быти по крыльцем и в дверях.]. Вникнув хорошенько в этот акт, можно положительно сказать, что первоначальный каменный дворец нач. XVI в., несмотря на пожары и беспрестанные перестройки и переделки, в главных чертах своих нисколько не изменился в течение двух с половиною веков и, покинутый царями в начале XVIII столетия, устоял, хотя и в развалинах, до времен императрицы Елисаветы Петровны и даже до начала нынешнего столетия. Руководствуясь сведениями, предлагаемыми этим любопытным актом, мы постараемся, сколько будет возможно, указать местность, по крайней мере главных частей, этого первоначального дворца.
Передний фасад дворцовых зданий или, вернее сказать, лицо дворца обращено было на площадь, между Благовещенским, Архангельским и Успенским соборами и церковью Иоанна Лествичника, что под Колоколы, на месте которой в XVII в. воздвигнут «Иван Великий». На эту площадь выходили две дворцовые палаты – Большая, стоявшая на самой площади, ныне Грановитая, и Средняя, находившаяся между Большою и Благовещенским собором, к западу от них, на дворце или на дворе великокняжеском. Перед Среднею палатою было Красное, иначе Верхнее крыльцо или Передние переходы, на которые с площади вели три лестницы: одна была, как и теперь, у стены Большой, или Грановитой, палаты – это та, которую теперь неправильно называют Красным крыльцом; другая – Средняя лестница, теперь не существующая; третья – Благовещенская паперть. Между лестницею подле Грановитой палаты и Среднею были ворота, которые посредством проезда под Красным крыльцом и Среднею палатою вели с дворца, т. е. с внутреннего двора, на площадь. Средняя лестница прямо через крыльцо вела в сени Средней палаты, которая почти с этого же времени (1517 г.) называется Среднею Золотою и просто Золотою, потому что была расписана внутри золотом. Из этих же сеней двери вели в Столовую избу, которая стояла позади Средней палаты против алтарей церкви Спаса на Бору. Подле Столовой избы была лестница вниз на двор к Спасу; крыльцо перед этою избою, служившее продолжением Передних переходов, соединяло ее с Набережною палатою, стоявшею против западных дверей Благовещенского собора. Далее к западу от этой палаты по линии Кремлевской горы к Москве-реке стояли чердаки или терема. Посреди государева двора стоял, как мы уже упоминали, Спасский Преображенский собор. Постельные или жилые хоромы великого князя и Постельная изба, княгинина половина, примыкавшая к церкви Рождества Богородицы, находились на том самом месте, где теперь Теремный дворец. В то время существовали только два нижние этажа этого здания, построенные Алевизом на белокаменных подклетах и погребах в одно время с другими палатами. Над этими-то этажами стояли деревянные постельные хоромы великого князя и великой княгини или собственно княгинина половина. Здесь же, у церкви Лазаря Святого, находилась каменная приемная палата великой княгини, называвшаяся, как можно о ней предполагать, Западною и Заднею (1547 г.) в отношении к Передним переходам дворца, т. е. к Красному крыльцу, а также палатою, что у Лазаря Святого[28 - Царственная книга. СПб., 1769. С. 57. Дополнения к Актам историческим. Т. I. № 24. Древняя Российская вивлиофика. Т. XIII. С. 39.], – Лазаревскою (1535 г.), когда великая княгиня Елена принимала царицу Казанскую. Двери из этой палаты вели на Постельное крыльцо, которое примыкало также к сеням Грановитой палаты и соединялось дверью между этими сенями и сенями Средней палаты с Передними переходами или Красным крыльцом. С восточной стороны это здание оканчивалось Наугольною палатою, что от Пречистой (Успенского собора), в которой впоследствии была устроена Царицына Золотая палата[29 - Древняя российская вивлиофика. Т. XIII. С. 13. Подробности о постройке и устройстве Теремного дворца см. в нашем описании этого здания в «Памятниках древнего русского зодчества» изд. Ф. Ф. Рихтера. М., 1853. Тетр. 3. М., 1853.]. Лестница с Постельного крыльца вела на двор, к Спасу. Поваренный дворец стоял позади Рождественской церкви и хором великой княгини, соединяясь с этими хоромами Задним крыльцом с лестницею. По береговой линии дворец простирался до церкви Иоанна Предтечи на Бору, где в палате, что на дворце, в 1537 г. скончался в заключении, в нужде, страдальческою смертью князь Андрей Иванович Старицкий.
Вот в кратком очерке расположение каменного дворца, заложенного великим князем Иваном Васильевичем. Воздвигнутый итальянцами по мысли или, по крайней мере, при сильном влиянии супруги великого князя – Софьи Фоминичны Палеолог, этот дворец не мог, конечно, во всем подчиниться русским вкусам и потребностям; архитектура его, по современным же свидетельствам, как и следовало ожидать, носила характер итальянский. Что касается его внутренних украшений, то можно также полагать, что вкус великой княгини Софьи, воспитанной в Италии среди родственников и единоземцев-греков, и вкус довершителя дворца великого князя Василия, воспитанного Софьею, внесли в новый дворец много таких вещей, которых не знала простая жизнь прежних великих князей и которые были необходимы при новом значении московского великого князя как царя. Впрочем, нельзя сказать, чтобы каменный дворец московских государей был совершенною новостью в тогдашнее время; потому что в Новгороде, гораздо прежде, мы находим обширный владычный двор, с особенным великолепием устроенный после пожара в 1432 г. архиепископом Евфимием, который выстроил там каменные комнаты, большие каменные палаты и разные другие здания для своего обихода. Некоторые палаты и сени были им подписаны, т. е. украшены стенописью; одна из больших палат, название которой нам неизвестно, была о тридцати дверях! Все эти постройки воздвигнуты были немецкими зодчими из-за моря при помощи новгородских мастеров[30 - ПСРЛ. Т. III. С. 111–114.]. Может быть, новгородский владычний двор послужил отчасти образцом или примером и для московского дворца. Великий князь Иван Васильевич, побывав под Новгородом, установив там «правду московскую», без всякого сомнения, видел и то благолепие, среди которого жил новгородский владыко и перед которым нельзя было оставаться хладнокровным зрителем московскому самодержцу. По крайней мере, после присоединения Новгорода к Москве начинаются все преобразования не только в отношении дворца, но и в отношении самой Москвы, например Кремля. С этого же времени появляются в Москве каменные здания и у частных лиц, например палата на четырех каменных подклетах, выстроенная митрополитом Геронтием, каменные палаты у Ховрина и Василия Образца и т. д.
При царе Иване Васильевиче в 1547 г., 21 июня, московский дворец сделался жертвою нового ужаснейшего пожара, который равным образом истребил и всю Москву. «Загореся храм Воздвижения Честнаго Креста, – говорит летописец, – за Неглинной, на Арбатской улице, на Острове, и бысть буря велика, и потече огнь якож молния, и пожар силен промче во един час Занеглименье. И обратится буря на град больший (Кремль)»[31 - Царственная книга. С. 137.]. Здесь, на царском дворе, вспыхнули кровли на палатах и деревянные избы государя. Потом занялись и каменные палаты, украшенные златом; сгорели также Казенный двор с царскою казною, Оружничья палата с воинским оружием, Постельная палата, царская конюшня и даже в погребах под палатами выгорело все, что только было в них деревянного. Не устояла и церковь Благовещения Златоверхая. В ней погибли невозвратно деисус письма знаменитого иконописца Андрея Рублева, обложенный золотом, и все иконы греческого письма древних великих князей, собранные от многих лет и украшенные также златом и бисером многоценным, т. е. дорогими каменьями. Летописец снова замечает, что «таков пожар не бывал на Москве, как она стала именоватися великими князьями, славна и честна быти по государству их». Опустошив весь Кремль, пожар перешел и в другие части города и свирепствовал с такою силою, что, по выражению летописца, «железо, яко олово, разливашеся и мед, яко вода, растаяваше». Государь выехал в с. Воробьево и жил там все время, пока в Кремле ставили для него новые деревянные хоромы и возобновляли распавшиеся от огня палаты. Для украшения Благовещенского собора иконами и царских палат стенописанием собраны были из Новгорода, Пскова и других городов иконописцы, которые и восстановили прежнее благолепие царского дворца.
Возобновив дворец, царь увеличил его впоследствии новою пристройкою. В 1560 г. он повелел устроить для своих детей «особный двор и хоромы позади большой Набережной полаты, на взрубе», с храмом Сретения Господня. Потом, в 1565 г., учреждая опричнину, царь задумал было свой особый Опричный дворец выстроить позади дворцовой церкви Рождества Богородицы, там, где были хоромы великой княгини и где стоял Поваренный дворец с разными приспешными палатами, с погребами и ледниками, по самые Куретные ворота, которые вели на Поваренный дворец. Но предположение это осталось предположением потому, вероятно, что не совсем согласовалось с духом опричнины, который требовал совершенного удаления от старого порядка, между тем как предполагаемый дворец должен был стоять подле кремлевских палат, оставленных за Земщиною. По крайней мере, известно, что царь повелел выстроить себе дворец вне Кремля, за Неглинною, на Воздвиженке, против кремлевских Ризположенских (ныне Троицких) ворот, на месте, где был двор князя Михаила Темрюковича Черкасского. В этот дворец он и переехал 12 января 1567 г.[32 - Карамзин Н. М. Указ. соч. Т. IX. Примеч. 31, 137–138, 268. Наши предположения о местоположении этого Опричного дворца см.: Археологические известия и заметки. 1893. № 11.], но жил в нем недолго, потому что любимым его местопребыванием с этого времени была Александрова слобода, откуда он приезжал только для приема иноземных послов и весьма редко – для других каких-либо дел. Покинутый царем, этот Опричный дворец вскоре сгорел, именно во время нашествия крымского хана Девлет-Гирея, истребившего Москву ужаснейшим пожаром, жертвою которого был также и дворец Кремлевский. Это было в мае 1571 г. Летопись с прежними сетованиями описывает страшные бедствия этого пожара; его испугался даже сам Девлет-Гирей и удалился в с. Коломенское. Для нас любопытны известия собственно о Кремлевском дворце. Летописец говорит, что «в Грановитой, и в Проходной, и в Набережной, и в иных полатах прутье железное толстое, что кладено крепости для, на связки, перегорело и переломалось от жару». Само собою разумеется, что царский дворец не оставался в таком положении и вскоре был возобновлен, хотя об этом не говорят ни летописи, ни акты, доселе известные. За остальные годы царствования Ивана Васильевича Грозного о дворце имеем мало сведений. Из известий уже XVII столетия узнаем только, что его хоромы стояли позади Средней Золотой палаты и заключали в себе передние сени, переднюю и две комнаты.
При царе Федоре Ивановиче, судя по отзывам иностранных путешественников, дворец был в цветущем состоянии; все приемные палаты в это время были великолепно украшены стенописью. При царе Федоре устроена[33 - Это здание построено Иваном III.], вероятно, и приемная Золотая палата для его супруги, царицы Ирины, отчего эта палата и называлась Палатою царицы Ирины, Золотою Царицыною палатою и Меньшею Золотою, в отличие от Большой Грановитой и Средней Золотой. Прежде она именовалась просто Наугольною от Пречистой, т. е. со стороны Успенского собора.
Царь Борис Федорович Годунов во время голода, бывшего в 1601 и 1602 гг., повелел, «чтобы людем питатися», воздвигнуть большие каменные палаты на взрубе[34 - Летопись о многих мятежах. 2-е изд. М., 1788. С. 64.], «где были царя Ивана хоромы», построенные им для детей. Это было здание Запасного двора, фасад которого опускался по взрубу под гору и над которым в XVII столетии находим уже Набережный Красный сад. Здесь же, кажется, были и деревянные жилые хоромы царя Бориса, сломанные по повелению Самозванца.
При Самозванце больших перемен в составе дворца не могло произойти по его кратковременному пребыванию в царских палатах. Известно только, что он выстроил для себя новые хоромы, вероятно, на месте годуновских, весьма красивые, по свидетельству современников, в польском вкусе; они находились возле Сретенского собора, на верху упомянутого здания Запасного двора, и лицом обращены были к Москве-реке[35 - Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1847. № 9. С. 25; Карамзин Н. М. Указ. соч. Т. XI. С. 131. Примеч. 402, 552; Сказания современников о Димитрии Самозванце. Ч. III. СПб., 1832. С. 143; Ч. 4. С. 23, 164.]. О постройке этих хором современник и очевидец их Исаак Масса рассказывает следующее: «Над большою Кремлевскою стеною (т. е. над зданием Запасного двора) Лжедимитрий велел построить великолепное здание, откуда была видна вся Москва. Оно было построено на высокой горе, под которою протекала река Москва, и состояло из двух строений, расположенных одно подле другого и сходившихся под углом. Одно предназначалось для будущей царицы, а другое для царя. (Следует изображение дворца.) Так стоял дворец на верху высоких тройных стен[36 - Со стороны Москвы-реки Кремль был обнесен двумя рядами стен; третья стена, о которой здесь говорится, был фасад здания Запасного двора, представлявшегося из Замоскворечья тоже в виде стены.]. В этом дворце Димитрий велел позолотить очень дорогие балдахины, стены обить дорогою парчою и рытым бархатом; все гвозди, крюки, цепи и петли дверные покрыть очень толстым слоем позолоты; внутри сделать превосходные печи и украсить их разнообразными произведениями искусства (по дневнику Марины, печи были зеленые и некоторые обведены серебряными решетками); занавесы у окон сделать из отличной ткани алого цвета. Он приказал выстроить роскошные бани, красивые башни и конюшню рядом со своим дворцом, хотя в нем уже была одна большая конюшня. В вышеописанном дворце царь велел устроить множество потаенных дверей и ходов…»[37 - Масса И., Геркман Э. Сказания Массы и Геркмана о Смутном времени в России. СПб., 1874. С. 166, 169–170.]
Из этого дворца Самозванец любовался не только видами Москвы, но и разными потехами, которые зимою устраивал на льду Москвы-реки.
Тот же Исаак Масса рассказывает, что «Лжедимитрий, любя воинские упражнения, приказывал строить крепости для осады и обстреливания их пушками и однажды велел сделать для образца крепость, двигавшуюся на колесах, с несколькими небольшими пушками и разного рода огнестрельными снарядами. Он хотел употребить эту подвижную крепость против татар и этим испугать как их самих, так и их лошадей. И действительно, это изобретение было очень остроумно. Зимою Димитрий приказал для пробы выставить на льду реки Москвы эту крепость, и рота польских всадников должна была ее осаждать и брать приступом. Это зрелище царь мог отлично видеть сверху, из своего дворца, и ему казалось, что крепость вполне удовлетворяет его желанию. Она была прекрасно сделана и вся раскрашена, на дверях были изображены слоны, на окнах – вход в ад, извергавший пламя; в нижней части на небольших окнах, имевших вид чертовых голов, были поставлены маленькие орудия». Наивный Масса верил, что от такого остроумно придуманного изобретения татары тотчас пришли бы в замешательство и обратились бы в бегство! «Москвитяне, – оканчивает он, – назвали эту крепость адским чудовищем и после смерти Димитрия, которого они называли чародеем, говорили, что он на время запер там черта, впоследствии сожженного вместе с этой крепостью (и с трупом Самозванца)».
Эта замысловатая крепость была не что иное, как небольших размеров Гуляй-город, весьма употребительный в то время в наших военных действиях. Изобретательность Самозванца заключалась только в том, что он расписал красками этот городок в образе апокалипсического треглавого ада, для чего, вероятно, верх городка был устроен в виде трех башен в соответствии адовым головам[38 - Следуя за Карамзиным (Т. XI. С. 131), мы в прежних изданиях нашего труда ошибочно говорили об этом городке как об огромном медном Цербере, стоявшем на сенях перед хоромами Самозванца. Сказание Массы вполне разъяснило, какого рода был этот Цербер и где он стоял.].
Описание Массы значительно пополняется и современным русским рассказом об этом аде: «И сотвори себе (Самозванец) в маловременной сей жизни потеху, а в будущей – знамение превечного своего домовища, его же в Российском государстве, ни во иных, кроме подземного, никто же его на земли виде – ад превелик зело, имеюще у себя три главы; и содела обоюду челюсти его от меди бряцало велие. Егда же разверзет челюсти своя, извну его яко пламя предстоящим ту является и велие бряцание исходит из гортани его; зубы же ему имеюще осклаблени и ногти его, яко готови на ухапление; и изо ушию якож пламеню распалившуся. И постави его проклятый он прямо себе, на Москве-реке, себе во обличение; даже ему из превысочайших обиталищ своих зрети нань всегда и готову быти, в некончаемый век, в онь на вселение и с прочими единомышленники своими»[39 - Карамзин Н. М. Указ. соч. Т. XI. С. 131. Примеч. 403. См. также хронографы, которые свидетельствуют притом, что в этом аду сожжено было и тело Самозванца, «на месте, нарицаемом Котле, от града яко седмь поприщ, за курганами»; по другим, в Садовниках, за Москвою-рекою: «А ростригино тело, в соделанном его аде, за Москвою-рекою в Верхних Садовниках сожгоша и приятелей его поляков поставища около ада смотрити, дабы в Польше сказали, яко рострига царствует во аде». См. наши заметки об одном из хронографов: Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, изд. Н. Калачовым. Кн. 1. М., 1859.]. Из описанных выше хором Самозванец, преследуемый по всем комнатам разъяренною толпою, выскочил в окно и упал на Житный двор, который расположен был под горою Кремля, под самым дворцом Самозванца. За несколько часов прежде, по тому же самому пути, отправлен был смелый обличитель его, дьяк Тимофей Осипов: изрубленный немецкою стражею на сенях Лжедимитриевых хором, он был свержен оттуда вниз, где стояли житницы[40 - Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1847. № 9: «Сказание и повесть, еже содеяся».].
Царю Василью Ивановичу Шуйскому некогда было заниматься дворцом: он выстроил только для себя и для своей царицы новые брусяные хоромы, потому что жить в опальном дворце Лжедимитрия было неприлично новому, законному государю.
После Шуйского настает Московская розруха, которая не истребила царских палат страшным пожаром, как было прежде, при великом князе Иване Васильевиче и при внуке его, Грозном, но зато опустошила их так, что при вступлении на престол царя Михаила Федоровича дворец представлял самую грустную картину: от прежнего великолепия, которому так дивились посещавшие нас иностранцы, остались только голые стены в самом точном смысле этого слова. «На царском дворе, – говорит рукопись Филарета, – во святых Божиих церквах, и в полатах, и по погребам – все стояху Литва и Немцы и все свое скаредие творяху». Так, например, в Грановитой палате стоял известный Маскевич, оставивший нам такую живую картину московских происшествий этого времени. Следы пребывания поляков в царских палатах оставались до царя Михаила Федоровича. При вступлении его на престол все палаты и хоромы были без кровель, без полов и лавок, без окончин и дверей, так что новому царю негде было поселиться[41 - Дворцовые разряды. Т. I. С. 1154.]. Отправившись в Москву в конце апреля 1613 г., он повелел Земскому совету изготовить к своему приезду Золотую палату царицы Ирины Федоровны – супруги царя Федора, с проходными сенями; еще другую палату с сеньми же и все так называемые «Мастерские палаты», стоявшие между Золотою и церковью Рождества Богородицы, которые впоследствии составили нижний этаж каменных хором, существующих доныне под именем Теремного дворца. Для своей матери – инокини Марфы Ивановны – царь велел устроить деревянные хоромы супруги царя Василия Шуйского. На исправление этих палат и хором употреблены были, за недостатком леса, брусяные хоромы царя Василия. Между тем еще до царского указа Земский совет приготовил для государя палаты: Среднюю Золотую, Грановитую и старые хоромы, в которых живал царь Иван Васильевич, что слыл чердак (терем) первой супруги его, Настасьи Романовны. Все это, разумеется, делалось наскоро, при недостатке денег, плотников и леса, нужного для этих поделок. Но, несмотря на такие затруднения, дворец был приведен в возможное устройство, и молодой царь поселился в нем с матерью в конце апреля 1613 г. Трудно было царю Михаилу восстановить прежнее благолепие дворца. Московское государство, которого он был избранником, в течение 10 лет постоянно тратило свои силы и к концу было вовсе разорено, так что в начале его царствования не давало средств к восстановлению прежнего порядка не только в государстве, но и в самой Москве, которая как представительница русской жизни в то время была так же или дотла выжжена, или разграблена до нитки… Предки наши очень верно прозвали эту несчастную эпоху в истории Москвы Московскою Розрухою.
Постепенно, по мере средств, которые были еще незначительны, царь восстановлял Москву, причем и дворец также постепенно возобновлялся и устраивался. В 1615 г. иконописцы Ивашка да Ондрюшка Моисеев расписывали уже в новые большие государевы хоромы, выстроенные еще в 1614 г., подволоки, или плафоны. В 1616 г. в тех же хоромах Серебряной палаты сторож Михалка Андреев делал литую вислую подволоку (потолок, плафон), которая была им же и вызолочена[42 - Расходные книги Казенного приказа 7124 г., № 898, и дела этого приказа в столбцах в Архиве Оружейной палаты.]. В январе того же года государь справлял новоселье в этих хоромах и наградил, вероятно за постройку, плотников Первова Исаева, Салмана Пантелеева, Бажена Родионова. Потом над Золотою Меньшею, или Царицыною, и над Проходною палатами и на Постельном крыльце устроены новые кровли, деланные котельными мастерами, что и заставляет думать, что кровли были медные. 1619 г., февраля 14-го, в царских хоромах случился пожар, последствия которого неизвестны; но можно догадываться, что царские деревянные хоромы были истреблены, потому что в 1620 г. дворцовый плотничий староста, Первой Исаев, выстроил для государя новые хоромы, новую Столовую избу и Постельную комнату, которые на другой год были украшены знаменем и письмом, т. е. иконописью или живописью в иконном стиле, известнейшими в то время иконописцами Прокопьем Чириным, Назарьем Савиным, Иваном Паисеиным, Осипом Поспеевым, травником Лукою Трофимовым и др.[43 - На поле рабочего экземпляра автором замечено: «Доп. Д. Р. мои, 278». См.: Дополнения к Дворцовым разрядам… собранные… Иваном Забелиным. Ч. I. Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. Кн. I. 1882. С. 277–278. – Ред.] В конце ноября того же года справлено в Столовой новоселье. В 1624 г. государь прибавил к своим хоромам две мыленки, избушку и сенничек, а в 1625 г. возобновил церковь Рождества Богородицы на Сенях с приделом Св. Лазаря. В том же году за дворцом построены были каменные ледники и пивоварни, а над дворцовыми Куретными воротами светлица – палата мастерицам, золотым и белым швеям, для которых подле этой палаты выстроено было также несколько деревянных светлиц на подклетах[44 - Расходные книги Казенного приказа // Архив Оружейной палаты. № 898, 905, 909, 916, 921, 923; Расходные книги Мастерской Царицыной палаты // Там же. № 738.]. Но только что дворец приведен был в надлежащее устройство, как снова пожар опустошил его в 1626 г., 3 мая. В Кремле, кроме монастырей Вознесенского и Чудова, «двор государев и патриарший и в приказах каменных всякие дела погореша, и казна, и конюшни, и житницы все, и все жила государевы погореша». Но в то же лето, после пожара, дворцовый плотничий староста (так звали наших старинных архитекторов), тот же Первуша Исаев, поставил государю новые жилые постельные хоромы, в которых 17 сентября царь справлял уже новоселье в новой Передней избе. Потом в 1627 и 1628 гг. тот же Первуша Исаев выстроил новую брусяную Столовую избу. 23 ноября 1628 г. в ней, по обычаю, было также новоселье: царь угощал бояр обедом, а они на новоселье били ему челом, хлебом да солью, да парою или даже целым сороком собольих мехов, смотря по достатку[45 - Дворцовые разряды. СПб., 1850; Разрядная книга библиотеки П. Ф. Корабанова, разряды 7135–7137 гг.; Расходные книги Казенного приказа // Архив Оружейной палаты. № 912.]. Между тем как русский плотничий староста рубил государю новые деревянные хоромы, иностранный архитектор, палатный мастер Джон Талер, в 1627 г. возобновлял Сретенский собор и строил на сенях царицы новую каменную церковь во имя вмц. Екатерины на месте прежней деревянной, построенной в 1586 г. и сгоревшей в пожаре, о котором мы упоминали выше[46 - Впоследствии на верху этой церкви был устроен новый храм во имя св. Евдокии, освященный в 1681 г. во имя Словущего Воскресения.]. Вообще после этого пожара каменные постройки следуют одна за другою непрерывно. По указу государя собраны были в это время из Ростова, Суздаля, с Белоозера и других мест все каменщики и кирпичники «для многих церковных, дворцовых и полатных каменных дел»; вызван был также «Голандския земли немчин, кирпичный мастер Рудирик Мартыс», который в кирпичных сараях под Даниловскою слободою «делал кирпичную ожигальную печь и над печью деревянный шатер, по своему немецкому образцу, и кирпич делал»[47 - Расходные книги Казенного приказа // Архив Оружейной палаты. № 930, 1089.]. В 1613 г. каменных дел подмастерья Антипа Константинов да Трефил Шарутин выстроили на Кормовом дворце каменную поварню, на которую вода проведена была с Москвы-реки посредством водоподъемной машины. В 1633 г. часового и водовзводного дел мастер Христофор Галовей взвел воду с Москвы-реки в Свиблову башню, «а из башни тое воду провел на государев Сытный и на Кормовой дворец в поварни». С этого времени башня стала называться Водовзводною – от водяного взвода или машины, в ней устроенной и с таким удобством доставляющей тогда еще чистую и здоровую москворецкую воду на царский обиход. Ниже мы увидим, что посредством этой машины во дворце была устроена целая система водопроводов и водовзводов.
В 1635–1636 гг. государь выстроил для себя и для детей жилые или покоевые хоромы каменные, что в царском быту для того времени было новостью, потому что собственно для жилья всегда предпочитались хоромы деревянные, которым старые привычки не изменяли и впоследствии. Может быть, пожар 1626 г. понудил среди деревянных построек хотя одно жилье сделать более безопасным. Эти каменные хоромы были воздвигнуты на стенах старого здания, выстроенного еще Алевизом, именно над Мастерскою палатою и над палатами подклетными, которых ряд тянулся далее к церкви Рождества Богородицы. Прежде над этим подклетным этажом Алевизовской постройки между упомянутых двух приемных царицыных палат, Задней и Наугольной, т. е. Золотой Царицыной, стояли постельные деревянные хоромы, на месте которых и возведены теперь три новых этажа, под лицо с царицыными приемными палатами, с теремом наверху. Верхний этаж с теремом назначен был для малолетних царевичей Алексея и Ивана, что значится и в надписи, сохранившейся над входом доныне. Терем в то время назывался чердаком и каменным теремом, а в начале XVIII в. – золотым теремком, отчего и теперь все это здание называется Теремным дворцом. Все здание, таким образом, сохранило тип деревянных жилых хором и служит любопытным и единственным в своем роде памятником древнего русского гражданского зодчества. В его фасаде и даже в некоторых подробностях внешних украшений остается еще многое, что напоминает характер древних деревянных построек. Таковы, например, каменные ростески и рези в наличных украшениях окон; по рисунку они вполне напоминают резьбу из дерева. Но яснее всего характер деревянных построек, имевший такое влияние и на каменные, раскрывается во внутреннем устройстве здания. Почти все его комнаты, во всех этажах, одинаковой меры, каждая с тремя окнами, что совершенно напоминает великорусскую избу, до сих пор сохранившую это число окон. Таким образом, Теремный дворец представляет несколько изб, поставленных рядом, одна подле другой, в одной связи и в несколько ярусов с чердаком или теремом наверху. Сила потребностей и неизменных условий быта, среди которых жили наши предки, подчинила своим целям и каменное, довольно обширное строение, которое давало полные средства устроиться по плану более просторному и более удобному для жизни, по крайней мере по теперешним понятиям. Но само собой разумеется, что оно вполне отвечало тогдашним требованиям удобства и уютности, и мы будем несправедливы, если только со своей точки зрения станем рассматривать и осуждать наш старый быт и все формы, в которых он обнаруживал свои требования и положения. В 1637 г. эти новые каменные хоромы были отделаны окончательно: какой-то конюх Иван Осипов, по ремеслу златописец, наводил уже в это время сусальным золотом, серебром и разными красками на кровлю репьи «да в те ж хоромы, во все окна (опроче чердака, т. е. терема) делал слюденые окончины». В то же время, как строились эти хоромы (1635–1636 гг.), с восточной их стороны, над Золотою Меньшею палатою цариц, сооружен был особый домовый храм во имя Нерукотворенного Спасова Образа с приделом Иоанна Белоградского, тезоименитого царевичу Ивану. В древности, как мы видели, такие храмы, обозначаемые выражением что на Сенях, составляли одно из необходимейших условий каждого отдельного помещения в царском быту. Сенные, верховые храмы находились и на царицыной половине, также у царевен и у царевичей, почему и постройка нового храма в этой части дворца вызвана была единственно только новым отдельным помещением государевых детей. Площадка между Теремом и новою церковью образовала передний каменный двор, с которого лестница вниз вела на Постельное крыльцо и запиралась впоследствии золотою решеткою, отчего и церковь Спаса обозначалась: что за золотою решеткою. Необходимо упомянуть, что и Теремный дворец, и церковь Спаса строили русские каменных дел подмастерья, по-нынешнему архитекторы: Бажен Огурцов, Антип Константинов, Трефил Шарутин, Ларя Ушаков. В одно время с описанными постройками те же подмастерья выстроили над Куретными дворцовыми воротами новую каменную Светлицу, в которой должны были работать царицыны мастерицы, золотошвеи и белошвеи со своими ученицами. В последние три года своего царствования Михаил выстроил еще какие-то дворцовые палаты и устроил новые хоромы на Цареборисовском дворе для датского королевича Волдемара, за которого хотел выдать дочь свою Ирину[48 - Расходные книги Казенного приказа // Архив Оружейной палаты. № 930, 1089, 756, 957, 958, 979, 986, 792, 1073.].
Таким образом, царь Михаил в течение 32 лет своего царствования успел не только восстановить старый дворец, но и увеличил его новыми каменными и деревянными постройками, выраставшими по мере размножения царской семьи и развития потребностей быта, который, несмотря на силу предания, мало-помалу все-таки двигался далее, вперед, предваряя в некоторых, хотя и мелочных, отношениях приближавшуюся реформу. Его сыну, царю Алексею Михайловичу, оставалось немного дела в отношении основных сооружений. И действительно, в его царствование мы не встречаем особенно значительных построек на царском дворе. Он возобновлял большею частию старое, переделывал и украшал по своей мысли здания, построенные предками или его отцом. В первое время, когда ему было всего 17 лет, в 1646 г., т. е. спустя год по смерти отца, он построил себе новые Потешные хоромы, которые тогда срубил дворцовый плотник Васька Романов. Из других построек упомянем о более значительных. Так, в 1660 г. была возобновлена дворцовая палата, построенная, может быть, при Михаиле, в которой помещался Аптекарский приказ и Аптека. Каменных дел подмастерье Вавилка Савельев делал в ней окна и двери и под старые своды подводил новые своды, а знаменщик, т. е. рисовальщик, Ивашка Соловей писал стенное письмо. Палата эта стояла недалеко от церкви Рождества Богородицы[49 - Архив Оружейной палаты. 7168. № 1015.]. В 1661 г. вместо старой Столовой избы государь выстроил новую и великолепно украсил ее резьбою, золоченьем и живописью в новом заморском вкусе, по вымыслу инженера и полковника Густава Декенпина, который под именем вымышленика выехал к нам в 1658 г.[50 - Там же. № 1013, 7166 г; № 1082 и 1020.] Резные, золотильные и живописные работы исполняли уже в 1662 г. также иноземные мастера, большею частию поляки, призванные в Москву во время польской войны, именно резчики, вырезавшие окна, двери и подволоку (плафон): Степан Зиновьев, Иван Мировской с учениками, Степан Иванов и живописцы: Степан Петров, Андрей Павлов, Юрий Иванов. В том же 1662 г., апреля 1-го, на именины царицы государь справил широкое новоселье в этой Столовой[51 - Дополнения к т. III Дворцовых разрядов. СПб., 1854. С. 327.]. Подобным же образом была украшена и новая Столовая царевича Алексея Алексеевича, построенная в 1667 г. В 1668 г. ее расписывали живописцы Федор Свидерский, Иван Артемьев, Дорофей Ермолин, Станислав Куткеев, Андрей Павлов; а резали ученики упомянутых выше мастеров, из которых Иван Мировский размеривал для резьбы и живописи подволоку[52 - См.: Расходные книги // Архив Оружейной палаты. № 382, 384.]. Так же впоследствии украшены были и новые постельные хоромы, выстроенные царем в 1674 г. На трех плафонах этих хором государь велел написать притчи пророка Ионы, Моисея и о Эсфири. В 1663 г. каменных дел подмастерье Никита Шарутин починил на дворце, в Верху у государя, соборную церковь Спаса Нерукотворенного Образа и трапезу сделал наново. Без сомнения, трапеза была распространена против прежней, потому что домовый храм Спаса при царе Алексее, жившем в теремных покоях, стал соборным и в этом значении заменил для царского двора древние соборы Спасо-Преображенский, Благовещенский и Сретенский. Около того же времени, вероятно, произведены были переделки и возобновления в теремном здании. В 1670 г. Передний верхний двор, или площадка, находившаяся между этими покоями и церковью Спаса, была украшена медною вызолоченною решеткою, запиравшею вход с лестницы, которая вела в Терем с Постельного крыльца. Любопытно, что эта прекрасная решетка, сохранившаяся и доныне, была перелита из медных денег, выпущенных перед тем в народ и наделавших столько неудовольствий, убытков, смут и казней[53 - См. в столбцах Архива Оружейной палаты: память о присылке плавельщиков медного дела, Ивашки Казаринова с товарищи, для плавления медных денег к государеву хоромному делу на медные решетки, 15 ноября 7178 г.].
В 1672 г. над приказом Аптекарской палаты в палатах был устроен театр, в котором с осени того же года магистр Яган Годфрид исправлял комедию, или комедийное действо, со своею труппою, которую составляли 26 чел. комедиантов, мещанских детей[54 - Временник Общества истории и древностей российских. Кн. 24.]. С этого времени делается известным Потешный дворец как новое, особое отделение царского дворца, заменившее упомянутые Потешные хоромы и в особенности Потешную палату, существовавшую до того времени в государевых каменных хоромах – именно в подклетном этаже теремного здания, под переднею, третьею и четвертою[55 - Расходные записки приказа Тайных дел 1670 г.]. Основанием этому дворцу, по всему вероятию, послужили палаты Аптекарского приказа, стоявшие, как мы упомянули, неподалеку от церкви Рождества Богородицы. По смерти царского тестя Ильи Даниловича Милославского в 1668 г. его двор с домовым храмом Похвалы Богородицы, находившийся рядом с Конюшенным государевым дворцом и подле этих палат, поступил также в число царских хором и был соединен с ними от Рождественской сенной церкви деревянными переходами, устроенными в 1669 г. Этот двор вместе с Аптекарскими палатами составил дворец Потешный, на котором в 1671 г. перекинуты были еще новые переходы от Оружейной палаты[56 - Местность этих последних переходов указывается следующею заметкою Расходной книги Оружейного приказа 1679 г. Там между прочим сказано: «Мастеровые люди делали и тесали кирпич дубовый в проходных сенех (что меж Оружейною палатою и Выборною и что ходят на Потешный двор), на пол, для государского шествия» (Архив Оружейной палаты. № 248). Позднейшие известия прямо указывают, что Аптека помещалась подле упомянутых переходов. В журнале Оружейной палаты 1727 г. ноября 13-го записано между прочим: «В Москве Потешный двор и на дворце, начав от переходов, полаты, в которых преж сего бывали Аптека, Оружейная и прочие все рядом перевесть в иные места».]. Ко времени царя Алексея Михайловича можно отнести и постройку церкви Спасова Нерукотворенного Образа на сенях у царевен, сестер государя – Ирины, Анны и Татьяны, хоромы которых стояли позади дворца, у Куретных ворот, находившихся со стороны Троицкого подворья и Троицких кремлевских ворот. Церковь эта существовала уже в 1669 г., когда по случаю смерти царицы Марьи Ильичны государь подал в нее сорокоуст для поминовения царицы. Она именовалась в это время: Спас, что словет Новая церковь; Спас Новая церковь, что у Троицкого подворья; также Спас у Царевен на Сенях. После стали ее обозначать: что у Куретных ворот, что над Куретными воротами.
В истории государева дворца царствование Алексея Михайловича замечательно более потому, что с этого времени в царский дворец вошло много разных улучшений, которые дотоле или весьма мало, или даже вовсе не были известны. Важные последствия в этом отношении принесла польская война 1654–1667 гг., когда царь сам лично «поволил итти на недруга своего и супостата, польского и литовского короля Яна Казимера, за его многие неправды и за крестопреступление». Счастливое начало этой войны довольно известно. Войска, воодушевляемые личным присутствием царя, взяли – кроме многих других, менее значительных городов – Смоленск, Витебск, Могилев, Полоцк, Вильно, Ковно, Гродно; пребывание царя в некоторых из этих городов, и особенно в Вильно и Полоцке, познакомило его с образом жизни совершенно новым. По свидетельству Коллинса, царь с этого времени стал преобразовывать двор, завел даже театр, как мы упоминали. Вызвав из всех посещенных им городов многих ремесленников и художников, он употребил их искусство и труды особенно на украшение своего дворца, для чего и причислил их всех к замечательному в то время дворцовому художественному и ремесленному заведению, известному более под именем Оружейной палаты, из которой они получали весьма достаточное содержание. Сверх того, государь отдал им в науку русских учеников, которых они должны были выучить всему, что сами знают. С этого времени характер украшений дворца во многом изменился. Внутри дворца появились обои (золотые кожи) и разного рода мебель на немецкий и польский образцы. Характер резьбы по дереву, столько употребительный во всех внутренних и внешних украшениях дворца, также изменился. Обыкновенную русскую резьбу по одной только поверхности дерева заменила фигурная немецкая резьба во вкусе немецкого рококо, как можно судить по дошедшим до нас памятникам из домашней утвари того времени.
По смерти Алексея Михайловича продолжателем всех его начинаний в отношении устройства и украшения дворца в новом характере был сын его, царь Федор, который в недолгое царствование, продолжавшееся с небольшим 6 лет, по выражению надписи на его портрете, преизрядчо обновил дворец и расширил новыми постройками. Новые отделения во дворце были необходимы. Царь Алексей Михайлович оставил после себя многочисленное семейство, которое еще при нем требовало более обширного помещения. По вступлении же на престол сына его Федора, занявшего жилище своего отца, потребовалось отделить особые хоромы для вдовствующей царицы Натальи Кирилловны с малолетним ее сыном – царевичем Петром. Поэтому замышляли, по проискам сторонников царевны Софьи и родичей дома Милославских, выселить царицу с царевичем Петром из старого ее помещения, находившегося возле Теремного дворца с северной его стороны, на внутреннем или Заднем дворе дворцовых зданий. 26 октября 1677 г. уже последовал царский указ построить царице и царевичу новые хоромы на месте двора боярина Семена Лукьяновича Стрешнева[57 - «186 г. (1677 г.) октября в 26 д. по указу великого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича (т.) велено построить хоромы государыни царицы и великой княгини Наталии Кирилловны и государя царевича и великого князя Петра Алексеевича – на дворе, что был двор боярина Семена Лукьяновича Стрешнева». (Книги приемные лесным запасам.)]. Этот двор, занимавший 104 сажени в окружности, находился подле Конюшенного Патриаршего двора и примыкал с одной стороны к Троицкому подворью, а с другой – к житницам, стоявшим на Хлебенном государевом дворце. Он был удален от Теремного дворца более чем на 50 саж. Однако царица не согласилась на переселение и осталась на своем старом месте. Крекшин рассказывает, что царевич Петр сам ходил к царю-брату жаловаться на нового Годунова, боярина Языкова, который старался устроить это переселение[58 - См. наши «Опыты изучения русских древностей и истории». Ч. 1. М., 1872. С. 48–49.]. После того на стрешневском месте были выстроены сначала деревянные, а потом каменные хоромы для царевен, а затем и для вдовствующей супруги царя Феодора Марфы Матвеевны. Новые хоромы, построенные на этом месте, примкнув к Патриаршему двору, соединили сенные церкви Екатерининскую и Евдокеинскую и вообще нынешний Терем с хоромами царевен возле Троицкого подворья. Потом, в 1680 г., государь как для себя и своей супруги, так и для своих сестер, Меньших и Больших царевен, выстроил новые деревянные хоромы вместо старых, которые были разобраны. Государевы хоромы стояли у терема подле западной стены Евдокеинской теремной церкви; сюда же перенесены были и хоромы царицы, и перед хоромами был разведен комнатный сад, а дальше, как упомянуто, тянулся ряд хором царевниных, тоже с садом. На сенях у царевен, кроме перестройки их хором, государь возобновил церковь Спасова Нерукотворенного Образа и построил над ее трапезою новый храм во имя Успения Богоматери, освященный в день Успения, 15 августа 1680 г. В 1681 г. государь выстроил для своего брата Ивана Алексеевича также новые деревянные хоромы.
В то же время (с 1677 г.) царь Федор Алексеевич обновил и свой каменный верхний терем со всеми церквами, которые находятся на сенях этих хором в связи с собором Спаса Нерукотворенного. Возобновлен был также и этот собор и расписан снаружи, со стороны алтарей, аспидом розными цветами (под мрамор). Над приделом Иоанна Белоградского (ныне Иоанна Предтечи) он надстроил небольшой придел в честь Распятия, украсив его медным вызолоченным иконостасом. Потом, в 1679 г., среди верховых церквей, между храмом Св. Евдокии (который в 1681 г. освящен был во имя Живоносного Воскресения) и между придела во имя Иоанна Белоградского, государь повелел устроить Голгофу, где быть Страстям Господним. В узком коридоре, который разделяет эти церкви, живописец Дорофей Ермолаев сделал алебастровый свод, или пещеру, которую ученики его расписали черепашным аспидом, т. е. под мрамор. В этой пещере, на каменной горе, расписанной также красками, поставлено было на большом белом камне кипарисное Распятие, сохранившееся, кажется, и доныне и вырезанное рельефно старцем Ипполитом – искуснейшим резчиком того времени. Пещера эта была украшена алебастровыми колоннами, на тумбах и наверху с гзымзом; посреди этих колонн, против Голгофной горы, поставлена была плащаница, или Гроб Господень, над которым висели на проволоках 60 алебастровых херувимов, расписанных красками по подобию, с золоченными по гунфарбе нетленными венцами и крыльями (240 крыл). Около Гроба Господня висели также 12 стеклянных лампад, а у стен стояли живописные картины, изображавшие евангельские притчи: Сошествие во ад, Воскресение, Вознесение и «Христос явися Марии Магдалине». Эти картины, писанные на полотнах живописцем Иваном Салтановым, вышиною были по 3 арш., шириною в свету по 1
/
арш. В 1681 г., 12 декабря, государь повелел устроить между новою церковью Распятия и своих деревянных комнат в особой небольшой каменной палатке Вертоград с Господним Гробом. Своды и стены этого Вертограда поручено было обделать мастеру Степану Заруцкому «из алебастроваго камени, цветные, с розными краски». Окончить это дело государь назначил к 10 апреля 1682 г., почему для поспешенья работали даже по ночам, но тяжкая болезнь и потом преждевременная смерть царя (27 апреля), вероятно, остановили и, может быть, совсем прекратили постройку этого Вертограда, потому что в последующее время о нем уже вовсе не упоминается. Церковь Распятия возвышалась в уровень с кровлею Грановитой палаты, так что к ее алтарю был ход с этой кровли.
С другой стороны теремов в 1681 г. перед четвертою теремною комнатою было устроено такое же крыльцо, какое находилось перед Переднею на Каменном дворе. Перед крыльцом была выровнена площадь и на ней поставлены для государя брусяные хоромы в длину 7 саж., поперек 6 саж., на каменных стенках вместо подклетов вышиною в 4 арш. Под четвертою же комнатою в подклете была устроена мыленка. Затем перестроена была церковь Рождества Богородицы. К ней приделали новую трапезу; собрали с нее главы и по сводам выверстали площадь наравне с площадью, которая находилась у терема под новыми хоромами; на этой площади, устроенной таким образом над церковью и над трапезою, построили новый пятиглавый храм во имя Сошествия Святого Духа с небольшим приделом с северной стороны. В этой же местности были произведены и другие перестройки. В 1679 г. государь возобновил также церковь Похвалы Богородицы на новом Потешном дворе, здание которого, сохранившееся доныне, было построено в это же время.
Из больших палат в 1681 г. были возобновлены две набережные: Ответная и Панихидная; последнюю, в которой оказались трещины, связали с лица кругом железными связями; внутри также положили проемные связи; внизу, где тогда же устраивался из старого новый Набережный Нижний Красный сад на особом каменном здании, к этому зданию со стороны Тайницких ворот для подкрепления Панихидной палаты подведен был каменный бык, или контрфорс. Столовая изба и при ней сад, между Средней Золотой и алтарями Спасо-Преображенского собора, были разобраны и на их месте выровнена площадь. Столовая была перенесена в возобновленную Панихидную палату, которая и именовалась с этого времени Столовою. Между церковью Иоанна Предтечи и Колымажными дворцовыми воротами в двух палатах, где были Резные и Столярные палаты, перенесенные в другое место, помещена царская аптека. Потом возобновлены были все палаты Сытного, Кормового и Хлебенного дворцов, по линии от Колымажных до Куретных дворцовых ворот, где теперь Кавалерские корпуса, и построены Новые портомойни в длину на 11 саж., поперек на 3 саж.
По смерти Федора Алексеевича, в ноябре 26-го числа 1682 г., часть обновленного им дворца, примыкавшая ко двору патриарха, сделалась жертвою пожара: сгорели деревянные хоромы царя Петра Алексеевича и хоромы царевен; потом занялся и Успенский собор, на котором сгорела кровля и в главах оконницы, так что все значительные иконы и мощи чудотворцев вынесены были в это время на случай опасности в Архангельский собор[59 - Древняя Российская вивлиофика. Т. X. 1775. С. 94. По случаю этого пожара для временного помещения царевен и вдовствующей царицы Марфы Матвеевны были выстроены деревянные хоромы с теремом наверху на Потешном дворе, где они и жили до постройки их новых хором на старом месте.]. В 1683 г. на месте погоревших хором выстроены были для царя Петра и его матери царицы Натальи Кирилловны деревянные хоромы, а для царевен Софьи, Екатерины, Федосьи и др., живших после пожара на Потешном дворе, каменные палаты о трех житьях, т. е. этажах, из которых в нижнем была устроена комната, где сидеть с бояры – слушать всяких дел: явление по тому времени не «совсем обыкновенное на женской половине царского дворца, и особенно на половине царевен, но весьма понятное, если мы скажем, что эта думная комната устроена была по назначению царевны Софьи Алексеевны. В одно время с этими палатами в 1684 г. построена на Кормовом дворце, возле новых хором царя Петра[60 - На поле рабочего экземпляра автором замечено: «Матер. Москв. I, 1013». См.: Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы… собранные и изданные руковод. и трудами Ивана Забелина. Ч. I. М., 1884, 1013, где указывается, что святой патриарх ходил к царю Петру Алексеевичу и царице Наталии Кирилловне «на новоселья в новые деревянные хоромы» 5 апреля 194 (1686) г. – Ред.] и его Верхнего Красного сада, новая церковь во имя святых апостолов Петра и Павла, тезоименитых царю. В июне того же года велено было написать в эту церковь местные пророческие и праотеческие иконы и сделать иконостас, позолотив его сусальным золотом.
В 1682 г. на площадке между теремами и церковью Сошествия Святого Духа выстроены для царей новые Брусяные хоромы, а в 1683 г. сделаны Брусяные хоромы и две избушки для царевен больших. В 1683 г. в Меньшей Золотой палате для подкрепления Верхоспасского собора под своды подведены были крестообразно каменные перететивья, которые хотя и обезобразили эту древнюю палату, но зато сберегли ее от неминуемого разрушения; потом в палатах Грановитой, Золотой Средней, Ответной и других исправлены все ветхости и возобновлено также Красное крыльцо. О многих других незначительных поновлениях и постройках не станем здесь упоминать, потому что это относится уже к полной истории дворца и не может войти в тесные пределы, назначенные для нашего очерка.
В конце XVII столетия пред единодержавием Петра дворец достиг самого цветущего состояния, до какого не достигал он ни в одно из предыдущих царствований. В это время его обширность и относительное великолепие вполне выразили характер древней царской жизни во всем ее блеске и царственном просторе, и с этого же времени начинается постепенное его запустение и разрушение. В год смерти последнего старинного московского царя Ивана Алексеевича, в то время, как Петр работал под Азовом, 6 июня 1696 г., на дворце сгорели государевы хоромы: выгорело все без остатка, по свидетельству Желябужского. В 1701 г., 19 июня, новый пожар опустошил весь Кремль. В тот день, как записал один современник, «в 11 часов в последней четверти волею Божиею учинился пожар в Кремле-городе, загорелись кельи на Новоспасском подворье, что против задних ворот Вознесенского монастыря. И разошелся огонь по всему Кремлю, и выгорел Царев двор весь без остатку: деревянные хоромы и в каменных все нутры, и в подклетах и в погребах запасы и в ледниках питья и льду много растаяло от великого пожара, ни в едином леднике человеку стоять было невозможно; и в каменных сушилах всякие запасы… и Ружейная Полата с ружьем; и Мастерские Государевы полаты… святые церкви, кои были построены вверху и внизу в государеве доме, кресты и кровли и внутри иконостасы, и всякое деревянное строение сгорело без остатку… И набережные государевы полаты, и верхние и нижние, кои построены в Верхнем Саду, выгорели… И все государевы Приказы и многие дела и всякая казна погорела… Кто ни был живущие в Кремле, все без остатку погорели…». Старина истреблялась старым же ее губителем – пожаром, от которого теперь особенно пострадал Задний государев двор, большею частию жилые и служебные постройки, именно Теремный дворец, каменные хоромы царевен и все здания, прилегавшие к Патриаршему двору и к Троицкому подворью; также деревянные хоромы, стоявшие подле Терема, и большой корпус с дворцами Сытным, Кормовым и Хлебенным. Хотя каменные здания и были возобновлены, но погорелые их стены не были уже столько прочны, так что через полстолетие пришли в совершенную ветхость и были разрушены по необходимости прежде других старинных зданий. Живые следы этого пожара в дворцовых зданиях оставались еще и в 1722 г.
* * *
Расположение дворца, сохранив первоначальные древнейшие черты, получило в XVII столетии при увеличении царского семейства более широкие размеры. Мы уже имели случай заметить, что все здания государева дворца соответственно их назначению составляли три особые отделения: постельные, или жилые, хоромы, палаты, или парадные залы и, наконец, все здания, в которых помещались различные заведения царского хозяйства. Во второй половине XVII столетия жилые летние покои государя находились в нынешнем Теремном дворце, а зимние – в деревянных хоромах, стоявших подле Терема, одни у церкви Рождества Богородицы, другие у церкви Живоносного Воскресения; с этой же восточной стороны Терема в разных местах стояли деревянные хоромы цариц и царевичей и больших и меньших царевен. Большие палаты, Грановитая, Золотая и др. примыкали к площади между соборами, а все хозяйственные здания расположены были в разных местах вокруг дворца, так что весь юго-западный угол Кремля – от Тайницких и до Троицких ворот – занят был дворцовыми строениями. Точное определение местности различных зданий царского дворца представляет величайшие затруднения по недостатку древних чертежей. Чертежи, хотя и деланные обыкновенно от руки, по глазомеру, составлялись и в то время по случаю каждой постройки, а тем более значительной, каковы были каменные палаты и другие подобные здания. Есть свидетельство, что в 1686 г. составлялся общий чертеж всему дворцу, «всем государским хоромам, палатам и всяким зданиям, которые в Кремле на их государском дворе». К сожалению, этот чертеж не сохранился или, по крайней мере, неизвестен нам. Недавно мы получили возможность воспользоваться копиями с чертежей, составленных в 1751 г. Эти копии, не имеющие, однако, подробной описи, принадлежат ныне Историческому музею и представляют драгоценнейший памятник кремлевской дворцовой старины, который во многом с точностью выясняет, отчасти исправляет, отчасти подтверждает прежние наши разыскания по этому предмету.
Пользуясь этими чертежами, а также напечатанными нами в первом томе «Материалов для истории, археологии и статистики города Москвы» (М., 1884) описями дворцовых зданий XVIII столетия, мы можем представить теперь более обстоятельное обозрение старинного расположения зданий дворца во всем их составе, но, как и прежде, ограничимся указанием только главных частей. Как и прежде было сказано, лицевая сторона дворца выходила на площадь между соборами, которая, подобно площади Китай-города, также иногда именовалась Красною (Дворцовые разряды. Т. III. С. 1973). На эту действительно замечательную площадь дворец выдвигался самою большою и красивою из своих палат – Грановитою палатою с лестницею возле нее, которая вела на Красное крыльцо и Передние переходы, простиравшиеся от угла Грановитой палаты до паперти Благовещенского собора. В глубине между палатою и собором на средине переходов стояла Золотая Средняя палата, к которой прямо к дверям ее сеней вела с площади другая лестница – средняя, известная в конце XVII столетия под именем Золотой лестницы и Золотой решетки (Дворцовые разряды. Т. I. С. 99, 639; Т. III. С. 17, 85). Третья лестница, приводившая на те же переходы Красного крыльца, находилась в паперти Благовещенского собора и прозывалась Благовещенскою.