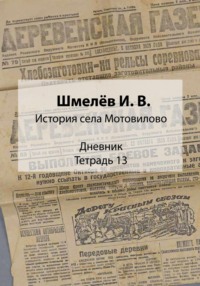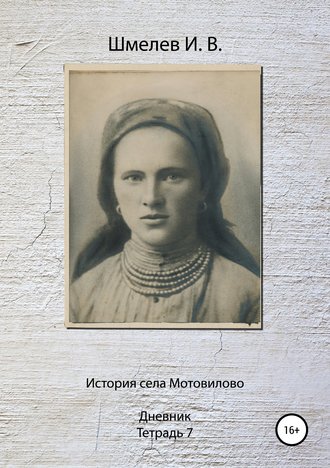
История села Мотовилово. Тетрадь 7 (1925 г.)
– Сыма! Супостаты! – грозно притопнув ногой о землю, у ворот двора, гаркнул дедушка на неотступных собак, схватив палку с земли для отгона. Собаки завидя палку ворча отступили.
В вечерней темноте, послышался звук падающих оглобель о землю. Это дед у ворот распрягал лошадь. Воз с колесницей не пролез в ворота. С досады он злобно огляделся по сторонам, опасаясь, как бы кто не увидел его новую покупку. Вдвоём с сыном Фёдором они едва вволокли колесницу во двор, поспешно захлопнув ворота.
А поле, после как с него свезли все до одного снопа, опустело, осталась одна стерня. Всё поле сжато серпом, какое пространство! А оно всё сжато небольшим, но важным инструментом – серпом. Всё поле сжато человеческими руками и тружеником серпом. Здесь было целое море, зревший колыхающийся под ветром ржи, а теперь ни одной не сжатой полоски, ни одного покинутого снопа, ни одного оброненного колоска – всё убрано. Всё поле побрано, горстями человеческой руки, а сколько горстью можно захватить стебельков ржи – можно сосчитать, прикинуть и подсчитать, сколько было захватов в горсть и подрезано серпом во всём поле. Получится поистине астрономическая цифра. А человек, не боится труда, мужик не отлынивает от нетуги, и не жалея своей спины. Он старается пониже подрезать стебелёк с колоском, старается не обронить на землю каждое зёрнышко, считая, что это плод его труда. Иногда гибнет народное добро, плоды тяжкого крестьянского труда и достояния человека, от каприз природы: наводнения, градобития и урагана. А иногда и от оплошности самих людей или от детской шалости, при пожарах.
Пася, близь села, мелкое стадо по стерне сжатого поля, старшой пастух Фёдор наказал подпаскам:
– Глядите за скотиной! Близко к копнам не допускайте, чтоб копны не повредили, а сам ушёл в село по своим личным делам. Пастушата, от безделья и скуки, решили побаловаться огнём, они подожгли жниву на корню и дурашливо стали кубарем кататься по ней, наблюдать как она горит. К несчастью, ветерок потягивал на копны. Жнива быстро разгорелась на большой площади поля. Перепуганные ребята принялись тушить стерню, но было поздно и не подсильно им стало справиться с огнём. Огонь добрался до копен, сбежался народ со всего села, но значительное количество хлеба в снопах сгорело. Плоды народного упорного труда пропали даром. Некоторые люди, свои погоревшие, почерневшие от дыма снопы свозили на тока, обмолачивали. Зерно отвозили на мельницу, пекли хлебы и ели его, но он был неприятен на вкус: пах дымом и горелостью, напоминая о случившемся горе.
Минька, Санька. Шаловливые дедки. Сумка
Послали Савельевы Миньку с Санькой в поле на свой загон, картофельную ботву сжать – с тем расчётом, что высохшую ботву на корм скоту употребить, а без ботвы, картошку будет легче рыть.
– Ты Миньк, будь там за старшего! – назидательно напутствовал и наказывал сыновьям Василий Ефимович, отправляя в поле. Минька с Санькой, взяв на плечи серпы, отправились, куда их послали. К обеду, братья, домой возвратились не в духах: один со слезами, другой с виновато поникшей головой. Минька в рубахе, а Санька нагишом: в портках, но без рубахи.
– В чём дело!? – строго спросил их отец, предчувствуя, что-то недоброе.
Санька, всхлипывая повернулся к отцу спиной. Отец тут же узнал причину Санькиных слёз и смущённого вида Миньки. Из раны в спине у Саньки против правой лопатки, из серповой раны, сочилась алая кровь. Отец яростно вспыхнул, живчик на его лице у самого глаза грозно заиграли, не предвещая ничего хорошего, но он сдержал свой гнев. Прищурив на мгновенье один глаз, взял себя в руки.
Отец бить Миньку не стал, или из-за того, что он больше любил первенца, черноватого как сам, или из-за того, что еще не уяснил причину драки, а ведь Миньку он послал за распорядителя как старшего. Отец решил только назидательно пожурить, посовестить Миньку:
– Ты, что же это, на своего родного брата руку поднял!? Как Каин на Авеля и родную кровь пустил, – строго впившись взором в глаза Миньки. – Вишь как парня-то изувечил! Погляди-ка, кровь-то еще не унялась, на землю капает, а чья это кровь!? – повышая интонацию голоса, сурово спросил Миньку отец. – Она, его, твоя и моя!!!!
На выкрики отца, из избы выбежала встревоженная мать. Увидя кровь на спине сына она заголосила. Василий Ефимович, грозным взглядом заставил её замолчать.
– За что ты его? – болезненно охая и торопко мигая, сгоняя с глаз слёзы, простонала она, спрашивая Миньку.
– Я сказал: «давай дожнём до конца загона и отдохнём», а он изленился, лёг, растянулся на борозде и не хочет жать. Я ему приказывал, а он не подчинился. Папа-то меня послал старшим, вот и разодрались. Он мне больно стукнул в грудь, а я не вытерпел, вот и… – всячески старался оправдать себя Минька.
– Я только хотел немножко отдохнуть, спина у меня, что-то заныла, и брюхо, что-то вдруг схватило, а он на меня с дракой, с серпом, – морщась от боли, сказал в своё оправдание Санька.
– Ведь из-за пустяка разодрались, – болезненно вздыхая, проговорила мать.
– Эт ладно, серп-то вскользь угодил, а если бы в сердце, тогда бы что !? – горестно и скорбно стонала мать.
– Как тебе, только, не стыдно брата так искалечил! Вы разве ни одной матери дети, – причитала она.
Горький, колючий комок сдавливал ей горло, от одолевающих слёз, жгуче резало глаза. Она, наконец, не выдержав, запричитала:
– Санюшка! Дитятко ты моё, сокровище ненаглядное! – с распростёртыми руками бросилась она к Саньке. Из сияющей раны его еще сильнее захлюпала сукровица.
– Ну ладно!!! – свирепо прикрикнул отец на мать. – Не переношу, когда в семье увижу слёзы. И к Михаилу: строго притопнув ногой, выпучив глаза, он дико заорал:
– Чтоб больше этого не было.
И поддав Миньке под зад, увесистого пинка, он скрылся в огороде, с треском захлопнув за собой ворота.
А Санька, вошедши в избу улёгся на диван вверх спиной, чтоб угомонить тянувшуюся из раны струйкой сукровицу. Мать присев подле его, чтоб как-то ободрить Саньку проговорила ему в утешение:
– Отец-то вон как на Миньку-то обозлился. Едва сдержался, чтоб не ударить, а ударить он может, чем попадёт под руку. Санька от ноющей боли в спине не плакал, а только болезненно кряхтел.
Бабушка Евлинья, наскоблив мучицы от «чёртова пальца», присыпала Санькину рану, успокаивающе, сказала:
– Ну вот, теперь, Сань, полегчает, всё пройдёт, бог милостив. Успокойся, до свадьбы-то всё заживёт, – ласково наговаривала бабушка.
Бабушке вспомнилось как Санька в детстве, беспричинно и безотвязно плача, подолгу ныл. Целыми часами, сидит и воет и когда невтерпёж надоедало слушать его вытьё, его спрашивали
– Саньк, у попа-то что?
– Кадило! – сквозь слёзы, деловито отвечал, бывало, Санька,
– А у дьякона?
– Свечка! Пока он отвечал, на эти вопросы, выть переставал, а чувствуя, что вопросов больше ему не задают, он снова принимался за своё натужное, монотонное вытьё.
При вспоминании бабушкой эпизодов из детства, у Саньки стало легчало в спине, ныть рана переставала, приятные картины минувшего детства, ободряюще действовали на него. Через неделю рана в спине у Саньке поджила, он снова стал, как и прежде здоров.
Наступила пора косить вику. Ушёл Василий Ефимович в поле на косьбу на целый день, а дома осталась Любовь Михайловна с ребятишками, которые в этот день были представлены сами себе и время проводили, кто как мог, и занимались они кто во что горазд. Отвернулась мать на несколько минут, из дома, а ребята натворили в дому того, что в их проказах сам чёрт не разберётся. Шаловливое отрочество – делов наделало! Пришла мать домой, да так и ахнула. В избе ковардак и беспорядок: на столе нагвоздано как у свиного корыта, из лахани пролито, по полу растекалась грязная лужа. Чуланная дверь вся изрезана возрастными зарубками: видимо, пока мать отлучалась, ребятишки решили, на облицовке чуланной двери сделать с каждого возрастную мерку. Выше всех отметка старших двух братьев, представителей мечтательной юности, пониже отметка шаловливого отрочества, еще ниже отметка беззаботного детства. Только Никишка находясь в зыбке, как представитель беспомощного младенчества не принимал участия в этих возрастных вырезах. Он был еще мал, и наивно поглядывал на проказы своих старших братьев.
– Не успела отойти от дому, как вы тут чёрт знает, что: содом и суматоху!
– Надрызгали, как свиньи у своего корыта, – запричитала мать. Силушки моей больше нет! Прямо-таки вы меня замурзовали, терпения моего больше не хватает, вздыху никакого нету, вся-то я с вами измучалась, вся-то истерзалась. Тираны вы мои ненасытные, постоянно жрёте, и когда только ваши утробы наполнятся! Напхались вы на мою-то шею, кесь и не скачаешь вас. Какие вы, всё же, досужие: где как всё сыщут, где как всё найдут и всё разрушат. На столе нагваздали, ножик изломали, рукомойник расквасили, из лахани помои расплескали, мух в избу напускали, утиральник искрутили, занавески исхлыстали, ножницы иступили, вилки изуродовали, часы отцовы изломали, развинтили, футляр к ним исковеркали, до швейной машинки ваши баловливые руки добрались, самовар измяли, дудунку у чайника отшибли, соску у ребёнка изорвали, бутылочку разбили, стены все исчеркали, окошко вдребезги тренькнули, чулан весь изрезали, полкадушки малосольных огурцы растаскали, сметану слизали, хлеб весь исковырзакали, пироги сожрали, рубахи с портками в ленты полосуете, зашивать не успеваю! Как на огне всё на вас горит! По деревьям лазаете, по заборам прыгаете. Как по заранее заготовленному списку, укоризненно перечисляла она все бедовые проделки своих детей, содеянные ими за какие-то полгода и за сегодняшний день.
– Спины себе серпами протыкаете, нет той минуты – дерётесь, воете. Тово гляди ребёнка из зыбки вывалите, тово гляди пожару наделаете, – не на шутку разгневаясь, добавляла она.
– Обойди всю вселенную, во всём селе таких детей надоедников, ни у кого нет. Вот, отец явится, из поля, узнает о ваших проделках он что скажет!? Вам от него достанется и через вас, супостатов. мне попадёт, – с переживанием стонала она
– Я, вот, возьму сумку, и скроюсь от вас – куда глаза глядят! – самым страшным попотчевала она своих детей. Как бы предчувствуя недоброе ребёнок в зыбке беспокойно завозился, задрыгал ногами, задравши к верху, а сам-то весь в говне вывозился, сучит ногами, барахтается руками словно, купается в воде.
А ребятишки присмирев, приутихли. Они натужно и печально начали вздыхать, боясь пошелохнуться. Унылыми блестящими от слёз глазами смотрят на разгорячившуюся мать, вяло дожёвывая, застрявший во рту кусок пирога, который, может застрять и в горле. Заметя слёзы на глазах детей, Любовь Михайловна раскаянно, перестала браниться, её покорили уставившиеся в упор на неё несколько пар, детских, наивных, блестящих от слёз глаз. Она, сжалившись над своими детьми, тоже прослезилась. Сгрудила их всех около себя, словно клушка своих цыплят, стала по-матерински обнимать и целовать. Ребятишки облегчённо повздыхали, и только теперь каждый позволил себе, проглотить чуть не застрявший во рту кусок. А мать расчувственно, и умилённо принялась их поочерёдно целовать. Слёзы горя смешались со слезами радости. Ребятишки, зашевелившись, весело, но сдержанно разыгрались, а мать принялась за дела: стала просматривая бельё, заплачивать рубашки и портишки, готовя их к субботе, к бане. Вскоре в сенях застучал, возвратившийся из поля с косьбы, отец. Старшие ребята виновато, но услужливо, подскакивали с мест, наткнувшись на отца у порога.
– Что вы мечетесь, как черти от грома! – проворчал он на них.
– А кто это сумничал: окошко-то разбил? – с угрозой в голосе проговорил отец, заметя зияющую сквозную дыру в окне.
– Узнаю кто, дыру башкой заткну! – грозно пообещал он. – Миньк, Саньк! Где вы мычитесь? За викой поедемте! – строго прикрикнул он на старших ребят.
– Надо в токарне сидеть и работать, а вас куда-то лукавый унёс! – ворчал он на них. – Саньк, а ты попроворнее, поворачивайся, что ты ходишь, как варёный! Как будто, непотерянное ищешь! Вот взять вожжи и отстегать! Будешь бегать побыстрее! – торопил вялого Саньку.
Ища, с длинным черенком навозные вилы, отец сунулся в конюшник. Забыв наклониться, больно стукнулся о низковатый дверной вершник. От боли заморщившись, обозлившись, он скорополитно схватил топор и безжалостно, размашистым ударом обуха выбил злополучный вершник. Потом устанавливая вершник на своё место, он, улыбаясь тайно ругал себя, что сам себе придал лишнее дело.
Собрались бабы, в праздничный день, на улице, расселись в тени, под ветлой, чтоб поискаться завели беседу о детях:
– Ну, как ты Татьян, со своими детками-то, справляешся? – спросила Савельева у Оглоблиной
– Мы со своим Кузьмой воедино, их выращиваем. Как и все растим. С ними забавляемся, за нуждой в люди не ходим, своей за глаза хватает, – уклончиво и как-то неопределённо ответила та. – Мы, со своим мужиком, слили наши разумы воедино и действуем совместно. Он скажет, а я поддакну, он отколотит провинившегося в семье, а я добавлю, поддержу его, – с владычественной ноткой в голосе, добавила она. – На днях, досадил мне мой меньшой Гришка, я не стерпела и отколотила его как следует, чтоб помнил, чтоб не повадно было!
– А меня, мои дети так всю и заполоскали, замутузили. И когда они сильно-то разоруются я их сумкой пугаю: скроюсь мол от вас, так нет, сразу присмиреют. Понимают, что без мамки-то плохо, – со своей стороны, в свою очередь, изъяснила Любовь Михайловна. – Да еще, сказать, они у меня, больно жрать-то лютые! Вчера я кокурки стряпала, так едва накормила свою ораву! Такой жрун на них напал, что ни приведи господи! Даже уму не постижимо – я пеку, а они так и хватают их прямо с раскалённой сковороды! Как метлой метут и руки не обожгут! Насилу их утробы насытились! Потом опешили и от стола отвалились.
– Я баю им: что не едите? Вон пироги из печи вынула! Отпыхнут и еште! – а они в один голос: «Нет мам, не хотим!» Наевшись только опыхиваются, и каждый старается поднять на себе рубаху, чтоб показать своё голое, набитое как лукошко пузо! Потом пить возьмутся! Ковшом гремят, друг у дружки его отнимают, из рук вырывают, воду расплёскивают. Никак не напьются, уркают кадыками, как лягушки в озере, – расхаивая своих детей перед бабами заглазно Любовь Михайловна, всячески оберегала их, стараясь всячески выгородить их от вины: в семье и на улице. По этому поводу, она высказалась перед бабами:
– Как-то слышу на улице кто-то заорал, нездорово …, меня так всю и прострелило. Мне подумалось: уж ни мово ли Ваньку избили?! Второпях выбежала на улицу, гляжу, а хвать это Ваську Демьянова долмачут. У меня так и отлегло от сердца-то!
– А мои, – снова вступила в разговор Татьяна, – пока кувыркаются на соломе, ни один раз передерутся, по нескольку раз, поревут, поплачут. Ну и чёрт с ними, они в драке-то лучше растут, от побоев только крепче будут. Малыш-то у меня растёт, знай, дудонит молоко из рога, из коровьей титьки, только видно захварать хочет. Золотуха к нему пристала, конфетки ему есть нельзя. А Гришка-то, видать накупался: кумоху схватил, а теперь в постели лежит, видать заболел корьюхой, – почёсывая свой выпуклый живот, Татьяна хладнокровно оповещала о болезни, своих двоих малых детей.
Осипова веялка. Осень. Препашка картофеля
Вот и леточко красное прошло. За ужином известила семью Савельева бабушка Евлинья: «Завтра будет студёно. Я сейчас на улицу выходила, ветер от Серёжи подул. Осень дождливой будет». «Да, денёк-то заметно поубавился. Без лампы не поужинаешь. Вечерняя темнота наступает рано и без огня, тово гляди, мух наешься», – деловито заметил и Василий Ефимович.
Невидаючи прошло лето. Напугав людей, внезапно наступили пасмурно-осенние, дождливые дни. Но через несколько непогожих дней, в пору бабьего лета, неприветливая погода снова сменилась на тёплую солнечную. И вопреки ожиданиям бабушки Евлиньи осень в этом году задалась тёплой и сухой.
До самого «Покрова» стояли тёплые, непохожие на осенние, дни. Мужики радовались. Всюду, людской разговор, сводился о благовременном времени, о том, что хорошо и своевременно, пришлось убрать с полей урожай.
Время стояло, словно по заказу. Даже последнюю и трудоёмкую работу – рытьё картофеля, удалось провести за несколько погожих дней. За всю осень, мало было дождя. Уборка задалась наславу. Мужики с горестью вспоминали прошлогоднюю, ненастную осень, когда дождь не давал своевременно убирать с поля хлеба. Из-за ненастного времени уборки рано выпавшего снега в поле, осталось много яровых хлебов не убранными. Нескошенный овёс и не вырытую из земли картошку, завалило снегом до весны. Овёс под снегом пропал, сгнил, а остатки его, вытоптал скот.
В прошлогоднюю осень, люди предполагали, что выпавший рано снег растает и всё же придётся с горем пополам, убрать из поля овёс и картофель, но к всеобщему разочарованию, снег выпавший на день Ивана Постного хотя и лёг на сухую землю так и пролежал до самой весны. В этом же году осень благоприятствовала во всех отношениях, как бы поощряя мужика за прошлогодние потери, одарила крестьянина добротным урожаем и хорошей погодой во время уборки его. Мужики, азартно налегши на полевую работу, с присущей им резвостью свозили с поля картофель – последние плоды кормилицы земли и плоды своего упористого тяжкого труда. Почти у каждого мужика села в голове одна мысль: «Вот сдёрну с поля картошку, и отдыхать будет можно!». От изобильного урожая ликовали и бабы, довольные тем, что в амбар засыпано много зерна и в подпол осыпано много возов картошки.
Любовь Михайловна Савельева, как-то, проговорила:
– Не плохо бы благодарственный молебен отслужить. Хлеба-то вот сколь – всё позапасли!
А хлеба, преимущественно ржи и овса, в этом году, все позапасли не мало. Осип Батманов, почти каждый день, конца августа, молотил, на своём току под окном, то рожь, то овёс, то вику. В это время, каждый день, по всей улице раздавался непомерно громкое хлопание его голубой веялки-уфимки.
Осип старательно провеивал свой обмолот. За неуправкой с делами, Осипу приходилось веялку, на ночь, оставлять под окном на току. Проходили по улице до поздна гулявшие парни-женихи, заметили беспризорно оставленную Осипову веялку.
– Ребя! Гля-ка веялка! – обрадовано возвестил своих товарищей Павел Федотов.
– Давайте свезём её на дорогу! – с озорным намерением предложил Мишка Крестьянинов. Лихой замысел исполняется быстро. Минька с Колькой взялись за оглобли. Павел подпирал веялку сзади, а Мишка, на ходу начал крутить, вертеть за рукоятку. На улице поднялся невообразимый шум, скрип и громыхание. Давно не подмазанные колёса веялки, тоскующее о смазке, визгливо заскрипели, во всю улицу, стуча, громыхал веялочный грохот. Массивные шестерни издавали звук: «Турлы-мурлы, турлы-мурлы!». Всё это перемешивалось с азартным, задорным, ликующим смехом этих ребят проказников. Спящие люди, не на шутку были всполошены, столь необыкновенными звуками и шумом на улице, слышанными из ночной полутьмы. Бабам, спросонья, подумалось: «на улице свет-представленье наступает», а мужикам помнилось: «что это проделки оборотня». А девки, утомлённые гульбой, это всё проспали. Осип же, проснувшись рано утром, и обнаружив пропажу, поднял тревогу, взбудоражив приближённый народ. Но вскоре, не на шутку, встревоженный Осип нашёл свою пропавшую веялку на перекрёстке, около Дунаева.
Между тем, к средине октября, во всём состоянии природы, чувствовалось, канун холодного времени. На берёзах и ветлах, с каждым днём становилось всё меньше и меньше пожелтевших отмирающих листьев, печально маячивших на оголённых ветвях. Изредка, буйной порывистый ветер, ястребом налетал на деревья, беспощадно трепал их кусты и ветви с яростью и остервенением срывал с них остатки жёлтых безжизненных листьев. Сорванные с кустов листья, на ветру долго кружились в воздухе, словно выбирая себе место где упасть на землю, чтобы безжизненно лежать под снегом до весны, а потом сгнить, превратившись в прах. Под напором порывистого ветра, с запада, по небу плыли багровые облака, то разрываясь на клочья, то снова собираясь в сплошную густую синюю громадину, сулившую дождь.
Солнце всё реже и реже стало показываться меж облаками. Не успеет оно показать на землю своё похолодевшее лицо, как расторопно его загораживает огромная туча, поспешно гонимая неугомонным ветром на восток. Как с цепи сорвавшийся ветер хозяйничает всюду: и в поле, и в лесу, и в селеньи. В лесу, в вершине сосен, он с ревом уныло гудит, в поле обшаривая межи и суходолы, шуршит колючим жнивьём, заставляя поклониться себе в след, каждую, оставшуюся несрезанную серпом былинку. А в селенье, ветер проверял крепость, мужицких построек: дом и двор зажиточного мужика обходит, у середняка найдя недоделки (немилосердно отдирает доски) предупреждающе забирается под кровлю. У бедняка же ветер находит каждую дыру в постройке, злобно забирается в них, и беспощадно хозяйничая во дворе, с яростью сбрасывает ветхую кровлю, с озорством, разметав солому по пробелам и огородам. Порой, сверху начинает сориться мелкий, как через сито просеянный дождь. Дождевая сырость жадно впитывается подсохшей землёй, и только на тропинках не впитанная землёй влага зеркально блестит. От непрекращающегося дождя на тропинках и дорогах, вскоре образуется грязь, навязчиво прилипающая к ногам прохожего и к колёсам проезжающей телеги.
Осень со своими холодными, дождливыми днями, и тёмными долгими ночами началась. К вечеру накануне воздвиженья, зарядил сильный дождь. Сначала по небу носились, как ошалелые, хмурые облака, а потом заволокло всё небо, и полил дождь. Сотнями огней, из окон, смотрело село в вечернем полумраке, когда Савельевы возвращались из поля с перепашки последнего картофельного загона. В доме уже давно ждали возвращения из поля, запоздалых, до самого темного вечера: отца и Маньки с Ванькой, которые подбирали выпаханную плугом картошку, случайно оставшуюся от рытья.
В избе Савельевых была зажжена лампа. Её только что зажгли, и она всё еще раскачивалась, вися на крючке, подвешенном к потолку. От лампы, через окна избы, свет, проникая на улицу, на земле отображал косой светлый прямоугольник с тёмными полосами переплёта рамы. Это отображение окна, в такт качания лампы двигалось из стороны в сторону, только в обратном качению лампы направлении.
Вскоре, с улицы послышался стук колёс и всхрапывание Серого, означающего, что трудовой день, для его окончен. Минька с зажжённым фонарём в руках поспешно вышел по двор. Он засуетился у ворот, открывая их. Ворота пропустив, лошадь с телегой, со скрипом, снова Минькой закрылись
– Распряги лошадь и ссыпте картошку в подпол, – повелительным тоном, приказал отец, а сам поспешил в избу погреться. Приехавшие с отцом из поля Манька и Ванька уже сидели на печке и отогревали закоченелые руки и ноги. Их безжалостно продержал отец в поле так до поздна, стараясь доперепахать последний загон.
– Эх, чай Вась и назяблись в поле-то, дождик-то вон какой, хлещет! – сочувственно и с жалостью к сыну, обратилась бабушка к Василию Ефимовичу.
– Я-то ладно, да вон Манька с Ванькой, чай сильно перезябли, – отозвался отец.
– Вон они отогреваются на печи, полезай и ты погрейся, – проговорила ему мать.
Мать с жалостью посмотрела на иззябших детей, но видя, что второпях вошедший в избу отец, тоже изрядно передрог, и по его насупленных бровей поняла, что он не в духе, не стала ни о чём их расспрашивать, скрывшись в чулане застучала ухватками, вынимая из печи щи, готовилась к подачи пищи на стол к ужину. Василий ужинать не стал, а с присущей ему сердитостью, крикнул жене:
– Подай мне бельё, я в баню пойду! – Взяв бельё с лавки, он отправился в баню.
Минька распрягши Серого, пустил его в хлев, и вместе с Санькой ссыпав с телеги картофель в подпол, вошёл в избу.
– Что как мало наперепахивали? – спросил Минька у греющихся на печи Маньку с Ванькой
– А её вовсе мало там было, картошки-то, – ответила Манька
– Это только папина жадность, продержала нас в поле так допоздна, на таком холоду. Нас с Ванькой чуть не заморозил!
– Чёрт его знает, что у него за жадность такая. Весь век, из-за каких-то трёх мешков картошки готов ребятишек заморозить! – выглянув из чулана, горестно проговорила мать.
В скором времени из бани пришёл отец, он проворно забрался на печь отдохнуть, после трудов и бани. В парной теплоте бани, во время мытья и бритья, он смяк, повеселел душой. Грея мокрую спину на горячих кирпичах печи он спросил, не обращаясь ни к кому:
– Самовар-то поставили? Что-то пить очень хочется, а холодную воду пить, после бани боюсь.
– Поставили. Скоро поспеет, – ответил Санька, улезая по лестнице в верхнюю избу, чтоб следить за поспевающим самоваром.
Бабушка Евлинья, сидела в верхней избе на диване, она, молча, погрузившись в раздумье, изредка посматривала на шумевший около трубы самовар.