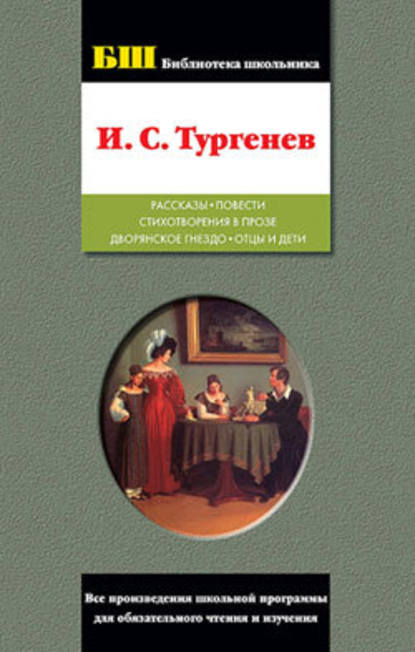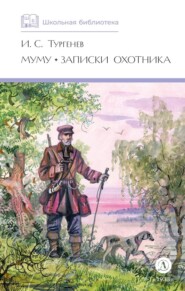По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы. Повести. Стихотворения в прозе. Дворянское гнездо. Отцы и дети
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты ей скажи – что она к нам, отчего не ходит?..
– Не знаю.
– Ты ей скажи, чтобы она ходила.
– Скажу.
– Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.
– А мне дашь?
– И тебе дам.
Ваня вздохнул.
– Ну нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.
И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котельчик.
– Куда ты? – спросил его Федя.
– К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить.
Собаки поднялись и пошли за ним.
– Смотри, не упади в реку! – крикнул ему вслед Ильюша.
– Отчего ему упасть? – сказал Федя, – он остережется.
– Да, остережется. Всяко бывает: он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду… А какое упал?.. Во-вон, в камыши полез, – прибавил он, прислушиваясь.
Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас.
– А правда ли, – спросил Костя, – что Акулина дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?
– С тех пор… Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал, что ее скоро вытащут. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил.
(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.)
– А говорят, – продолжал Костя, – Акулина оттого в реку и кинулась, что ее полюбовник обманул.
– От того самого.
– А помнишь Васю? – печально прибавил Костя.
– Какого Васю? – спросил Федя.
– А вот того, что утонул, – отвечал Костя, – в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды погибель произойдет. Бывало, пойдет-от Вася с нами, с ребятками, летом в речку купаться, – она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул, господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, – глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет да и ляжет на том месте, где он утоп; ляжет, братцы мои, да и затянет песенку, – помните, Вася-то все такую песенку певал, – вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько богу жалится…
– А вот Павлуша идет, – молвил Федя.
Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке.
– Что, ребята, – начал он, помолчав, – неладно дело.
– А что? – торопливо спросил Костя.
– Я Васин голос слышал.
Все так и вздрогнули.
– Что ты, что ты? – пролепетал Костя.
– Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул.
– Ах ты, господи, ах ты, господи! – проговорили мальчики, крестясь.
– Ведь это тебя водяной звал, Павел, – прибавил Федя… – А мы только что о нем, о Васе-то, говорили.
– Ах, это примета дурная, – с расстановкой проговорил Ильюша.
– Ну, ничего, пущай! – произнес Павел решительно и сел опять, – своей судьбы не минуешь.
Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать.
– Что это? – спросил вдруг Костя, приподняв голову.
Павел прислушался.
– Это кулички летят, посвистывают.
– Куда ж они летят?
– А туда, где, говорят, зимы не бывает.
– А разве есть такая земля?
– Есть.
– Далеко?
– Далеко, далеко, за теплыми морями.
Костя вздохнул и закрыл глаза.
Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Месяц взошел наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде… Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе; все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру: все спало крепким, неподвижным, передрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, в нем снова как будто разливалась сырость… Недолги летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями… Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понурив головы… Слабое забытье напало на меня; оно перешло в дремоту.
Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и пошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.