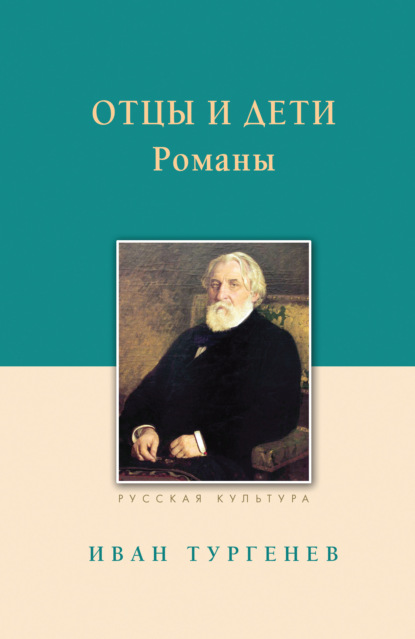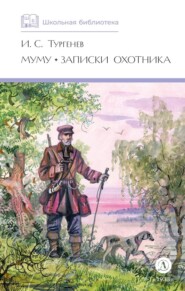По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Отцы и дети
Автор
Жанр
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мое почтение, Марфа Тимофеевна, – промолвил Паншин, приближаясь сбоку к расходившейся старушке и низко кланяясь.
– Извините меня, государь мой, – возразила Марфа Тимофеевна, – не заметила вас на радости. На мать ты свою похож стал, на голубушку, – продолжала она, снова обратившись к Лаврецкому, – только нос у тебя отцовский был, отцовским и остался. Ну – и надолго ты к нам?
– Я завтра еду, тетушка.
– Куда?
– К себе, в Васильевское.
– Завтра?
– Завтра.
– Ну, коли завтра, так завтра. С Богом, – тебе лучше знать. Только ты, смотри, зайди проститься. – Старушка потрепала его по щеке. – Не думала я дождаться тебя; и не то чтоб я умирать собиралась; нет – меня еще годов на десять, пожалуй, хватит: все мы, Пестовы, живучи; дед твой покойный, бывало, двужильными нас прозывал; да ведь Господь тебя знал, сколько б ты еще за границей проболтался. Ну, а молодец ты, молодец; чай, по-прежнему десять пудов одной рукой поднимаешь? Твой батюшка покойный, извини, уж на что был вздорный, а хорошо сделал, что швейцарца тебе нанял; помнишь, вы с ним на кулачки бились; гимнастикой, что ли, это прозывается? Но, однако, что это я так раскудахталась; только господину Панши?ну (она никогда не называла его, как следовало, Па?ншиным) рассуждать помешала. А впрочем, станемте-ка лучше чай пить; да на террасу пойдемте его, батюшку, пить; у нас сливки славные – не то что в ваших Лондонах да Парижах. Пойдемте, пойдемте, а ты, Федюша, дай мне руку. О! да какая же она у тебя толстая! Небось с тобой не упадешь.
Все встали и отправились на террасу, за исключением Гедеоновского, который втихомолку удалился. Во все продолжение разговора Лаврецкого с хозяйкой дома, Паншиным и Марфой Тимофеевной он сидел в уголке, внимательно моргая и с детским любопытством вытянув губы: он спешил теперь разнести весть о новом госте по городу.
* * *
В тот же день, в одиннадцать часов вечера, вот что происходило в доме г-жи Калитиной. Внизу, на пороге гостиной, улучив удобное мгновение, Владимир Николаич прощался с Лизой и говорил ей, держа ее за руку: «Вы знаете, кто меня привлекает сюда; вы знаете, зачем я беспрестанно езжу в ваш дом; к чему тут слова, когда и так все ясно». Лиза ничего не отвечала ему и, не улыбаясь, слегка приподняв брови и краснея, глядела на пол, но не отнимала своей руки; а наверху, в комнате Марфы Тимофеевны, при свете лампадки, висевшей перед тусклыми старинными образами, Лаврецкий сидел на креслах, облокотившись на колена и положив лицо на руки; старушка, стоя перед ним, изредка и молча гладила его по волосам. Более часу провел он у ней, простившись с хозяйкой дома; он почти ничего не сказал своей старинной доброй приятельнице, и она его не расспрашивала… Да и к чему было говорить, о чем расспрашивать? Она и так все понимала, она и так сочувствовала всему, чем переполнялось его сердце.
VIII
Федор Иванович Лаврецкий (мы должны попросить у читателя позволение перервать на время нить нашего рассказа) происходил от старинного дворянского племени. Родоначальник Лаврецких выехал в княжение Василия Темного из Пруссии и был пожалован двумястами четвертями земли в Бежецком верху. Многие из его потомков числились в разных службах, сидели под князьями и людьми именитыми на отдаленных воеводствах, но ни один из них не поднялся выше стольника и не приобрел значительного достояния. Богаче и замечательнее всех Лаврецких был родной прадед Федора Иваныча, Андрей, человек жестокий, дерзкий, умный и лукавый. До нынешнего дня не умолкла молва об его самоуправстве, о бешеном его нраве, безумной щедрости и алчности неутолимой. Он был очень толст и высок ростом, из лица смугл и безбород, картавил и казался сонливым; но чем он тише говорил, тем больше трепетали все вокруг него. Он и жену достал себе под стать. Пучеглазая, с ястребиным носом, с круглым желтым лицом, цыганка родом, вспыльчивая и мстительная, она ни в чем не уступала мужу, который чуть не уморил ее и которого она не пережила, хотя вечно с ним грызлась. Сын Андрея, Петр, Федоров дед, не походил на своего отца; это был простой степной барин, довольно взбалмошный, крикун и копотун, грубый, но не злой, хлебосол и псовый охотник. Ему было за тридцать лет, когда он наследовал от отца две тысячи душ в отличном порядке, но он скоро их распустил, частью продал свое именье, дворню избаловал. Как тараканы, сползались со всех сторон знакомые и незнакомые мелкие людишки в его обширные, теплые и неопрятные хоромы; все это наедалось чем попало, но досыта, напивалось допьяна и тащило вон что могло, прославляя и величая ласкового хозяина; и хозяин, когда был не в духе, тоже величал своих гостей дармоедами и прохвостами, а без них скучал. Жена Петра Андреича была смиренница; он взял ее из соседнего семейства, по отцовскому выбору и приказанию; звали ее Анной Павловной. Она ни во что не вмешивалась, радушно принимала гостей и охотно сама выезжала, хотя пудриться, по ее словам, было для нее смертью. Поставят тебе, рассказывала она в старости, войлочный шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом вымажут, мукой посыплют, железных булавок натыкают – не отмоешься потом; а в гости без пудры нельзя – обидятся, – мука! Она любила кататься на рысаках, в карты готова была играть с утра до вечера и всегда, бывало, закрывала рукой записанный на нее копеечный выигрыш, когда муж подходил к игорному столу; а все свое приданое, все деньги отдала ему в безответное распоряжение. Она прижила с ним двух детей: сына Ивана, Федорова отца, и дочь Глафиру. Иван воспитывался не дома, а у богатой старой тетки, княжны Кубенской: она назначила его своим наследником (без этого отец бы его не отпустил); одевала его, как куклу, нанимала ему всякого рода учителей, приставила к нему гувернера, француза, бывшего аббата, ученика Жан-Жака Руссо, некоего m-r Courtin de Vaucelles, ловкого и тонкого проныру, – самую, как она выражалась, fi ne fl eur[7 - Цвет (франц.).] эмиграции, – и кончила тем, что чуть не семидесяти лет вышла замуж за этого финь-флера; перевела на его имя все свое состояние и вскоре потом, разрумяненная, раздушенная амброй а la Richelieu, окруженная арапчонками, тонконогими собачками и крикливыми попугаями, умерла на шелковом кривом диванчике времен Лудовика XV, с эмалевой табакеркой работы Петито в руках – и умерла, оставленная мужем: вкрадчивый господин Куртен предпочел удалиться в Париж с ее деньгами. Ивану пошел всего двадцатый год, когда этот неожиданный удар (мы говорим о браке княжны, не об ее смерти) над ним разразился; он не захотел остаться в теткином доме, где он из богатого наследника внезапно превратился в приживальщика; в Петербурге общество, в котором он вырос, перед ним закрылось; к службе с низких чинов, трудной и темной, он чувствовал отвращение (все это происходило в самом начале царствования императора Александра); пришлось ему поневоле вернуться в деревню, к отцу. Грязно, бедно, дрянно показалось ему его родимое гнездо; глушь и копоть степного житья-бытья на каждом шагу его оскорбляли; скука его грызла; зато и на него все в доме, кроме матери, недружелюбно глядели. Отцу не нравились его столичные привычки, его фраки, жабо, книги, его флейта, его опрятность, в которой недаром чуялась ему гадливость; он то и дело жаловался и ворчал на сына. «Все здесь не по нем, – говаривал он, – за столом привередничает, не ест, людского запаху, духоты переносить не может, вид пьяных его расстраивает, драться при нем тоже не смей, служить не хочет: слаб, вишь, здоровьем; фу ты, неженка эдакой! А все оттого, что Волтер в голове сидит». Старик особенно не жаловал Вольтера да еще «изувера» Дидерота, хотя ни одной строки из их сочинений не прочел: читать было не по его части. Петр Андреич не ошибался: точно, и Дидерот и Вольтер сидели в голове его сына, и не они одни – и Руссо, и Рейналь, и Гельвеций, и много других, подобных им, сочинителей сидели в его голове, – но в одной только голове. Бывший наставник Ивана Петровича, отставной аббат и энциклопедист, удовольствовался тем, что влил целиком в своего воспитанника всю премудрость XVIII века, и он так и ходил наполненный ею; она пребывала в нем, не смешавшись с его кровью, не проникнув в его душу, не сказавшись крепким убежденьем… Да и возможно ли было требовать убеждений от молодого малого пятьдесят лет тому назад, когда мы еще и теперь не доросли до них? Посетителей отцовского дома Иван Петрович тоже стеснял; он ими гнушался, они его боялись, а с сестрой Глафирой, которая была двенадцатью годами старше его, он не сошелся вовсе. Эта Глафира была странное существо: некрасивая, горбатая, худая, с широко раскрытыми строгими глазами и сжатым тонким ртом, она лицом, голосом, угловатыми быстрыми движениями напоминала свою бабку, цыганку, жену Андрея. Настойчивая, властолюбивая, она и слышать не хотела о замужестве. Возвращение Ивана Петровича ей пришлось не по нутру; пока княжна Кубенская держала его у себя, она надеялась получить по крайней мере половину отцовского имения: она и по скупости вышла в бабку. Сверх того, Глафира завидовала брату; он так был образован, так хорошо говорил по-французски, с парижским выговором, а она едва умела сказать «бонжур» да «коман ву порте ву?»[8 - Здравствуйте… – как вы поживаете? (франц. «bonjour», «comment vous portez-vous?»)] Правда, родители ее по-французски вовсе не разумели, да от этого ей не было легче. Иван Петрович не знал, куда деться от тоски и скуки; невступно год провел он в деревне, да и тот показался ему за десять лет. Только с матерью своею он и отводил душу и по целым часам сиживал в ее низких покоях, слушая незатейливую болтовню доброй женщины и наедаясь вареньем. Случилось так, что в числе горничных Анны Павловны находилась одна очень хорошенькая девушка, с ясными, кроткими глазками и тонкими чертами лица, по имени Маланья, умница и скромница. Она с первого разу приглянулась Ивану Петровичу; и он полюбил ее: он полюбил ее робкую походку, стыдливые ответы, тихий голосок, тихую улыбку; с каждым днем она ему казалась милей. И она привязалась к Ивану Петровичу всей силою души, как только русские девушки умеют привязываться, – и отдалась ему. В помещичьем деревенском доме никакая тайна долго держаться не может: скоро все узнали о связи молодого барина с Маланьей; весть об этой связи дошла, наконец, до самого Петра Андреича. В другое время он, вероятно, не обратил бы внимания на такое маловажное дело; но он давно злился на сына и обрадовался случаю пристыдить петербургского мудреца и франта. Поднялся гвалт, крик и гам: Маланью заперли в чулан; Ивана Петровича потребовали к родителю. Анна Павловна тоже прибежала на шум. Она попыталась было укротить мужа, но Петр Андреич уже ничего не слушал. Ястребом напустился он на сына, упрекал его в безнравственности, в безбожии, в притворстве; кстати, выместил на нем всю накипевшую досаду против княжны Кубенской, осыпал его обидными словами. Сначала Иван Петрович молчал и крепился, но когда отец вздумал грозить ему постыдным наказаньем, он не вытерпел. «Изувер Дидерот опять на сцене, – подумал он, – так пущу же я его в дело, постойте; я вас всех удивлю». И тут же спокойным, ровным голосом, хотя с внутренней дрожью во всех членах, Иван Петрович объявил отцу, что он напрасно укоряет его в безнравственности; что хотя он не намерен оправдывать свою вину, но готов ее исправить, и тем охотнее, что чувствует себя выше всяких предрассудков, а именно – готов жениться на Маланье. Произнеся эти слова, Иван Петрович, бесспорно, достиг своей цели: он до того изумил Петра Андреича, что тот глаза вытаращил и онемел на мгновенье; но тотчас же опомнился и как был в тулупчике на беличьем меху и в башмаках на босу ногу, так и бросился с кулаками на Ивана Петровича, который, как нарочно, в тот день причесался ? la Titus и надел новый английский синий фрак, сапоги с кисточками и щегольские лосинные панталоны в обтяжку. Анна Павловна закричала благим матом и закрыла лицо руками, а сын ее побежал через весь дом, выскочил на двор, бросился в огород, в сад, через сад вылетел на дорогу и все бежал без оглядки, пока, наконец, перестал слышать за собою тяжелый топот отцовских шагов и его усиленные, прерывистые крики… «Стой мошенник! – вопил он, – стой! прокляну!» Иван Петрович спрятался у соседнего однодворца, а Петр Андреич вернулся домой весь изнеможенный и в поту, объявил, едва переводя дыхание, что лишает сына благословения и наследства, приказал сжечь все его дурацкие книги, а девку Маланью немедленно сослать в дальнюю деревню. Нашлись добрые люди, отыскали Ивана Петровича, известили его обо всем. Пристыженный, взбешенный, он поклялся отомстить отцу и в ту же ночь, подкараулив крестьянскую телегу, на которой везли Маланью, отбил ее силой, поскакал с нею в ближайший город и обвенчался с ней. Деньгами его снабдил сосед, вечно пьяный и добрейший отставной моряк, страшный охотник до всякой, как он выражался, благородной истории. На другой день Иван Петрович написал язвительно холодное и учтивое письмо Петру Андреичу, а сам отправился в деревню, где жил его троюродный брат Дмитрий Пестов с своею сестрой, уже знакомою читателям, Марфой Тимофеевной. Он рассказал им все, объявил, что намерен ехать в Петербург искать места, и упросил их хоть на время приютить его жену. При слове «жена» он всплакнул горько и, несмотря на свое столичное образование и философию, униженно, беднячком-русачком поклонился своим родственникам в ноги и даже стукнул о пол лбом. Пестовы, люди жалостливые и добрые, охотно согласились на его просьбу; он прожил у них недели три, втайне ожидая ответа от отца; но ответа не пришло, – и прийти не могло. Петр Андреич, узнав о свадьбе сына, слег в постель и запретил упоминать при себе имя Ивана Петровича; только мать, тихонько от мужа, заняла у благочинного и прислала пятьсот рублей ассигнациями да образок его жене; написать она побоялась, но велела сказать Ивану Петровичу через посланного сухопарого мужичка, умевшего уходить в сутки по шестидесяти верст, чтоб он не очень огорчался, что, Бог даст, все устроится и отец переложит гнев на милость; что и ей другая невестка была бы желательнее, но что, видно, Богу так было угодно, а что она посылает Маланье Сергеевне свое родительское благословение. Сухопарый мужичок получил рубль, попросил позволенья повидаться с новою барыней, которой он доводился кумом, поцеловал у ней ручку и побежал восвояси.
А Иван Петрович отправился в Петербург с легким сердцем. Неизвестная будущность его ожидала; бедность, быть может, грозила ему, но он расстался с ненавистною деревенской жизнью, а главное – не выдал своих наставников, действительно «пустил в ход» и оправдал на деле Руссо, Дидерота и la Dеclaration des droits de l’homme[9 - Декларацию прав человека (франц.).]. Чувство совершенного долга, торжества, чувство гордости наполняло его душу; да и разлука с женой не очень пугала его; его бы скорее смутила необходимость постоянно жить с женою. То дело было сделано; надобно было приняться за другие дела. В Петербурге, вопреки его собственным ожиданиям, ему повезло: княжна Кубенская, – которую мусье Куртен успел уже бросить, но которая не успела еще умереть, – чтобы чем-нибудь загладить свою вину перед племянником, отрекомендовала его всем своим друзьям и подарила ему пять тысяч рублей – едва ли не последние свои денежки – да лепиковские часы с его вензелем в гирлянде амуров. Не прошло трех месяцев, как уж он получил место при русской миссии в Лондоне и с первым отходившим английским кораблем (пароходов тогда еще в помине не было) уплыл за море. Несколько месяцев спустя получил он письмо от Пестова. Добрый помещик поздравлял Ивана Петровича с рождением сына, явившегося на свет в селе Покровском 20 августа 1807 года и нареченного Федором в честь святого мученика Феодора Стратилата. По причине большой слабости Маланья Сергеевна приписывала только несколько строк; но и эти немногие строки удивили Ивана Петровича: он не знал, что Марфа Тимофеевна выучила его жену грамоте. Впрочем, Иван Петрович не долго предавался сладостному волнению родительских чувств: он ухаживал за одной из знаменитых тогдашних Фрин или Лаис (классические названия еще процветали в то время); Тильзитский мир был только что заключен, и все спешило наслаждаться, все крутилось в каком-то бешеном вихре; черные глаза бойкой красавицы вскружили и его голову. Денег у него было очень мало; но он счастливо играл в карты, заводил знакомства, участвовал во всех возможных увеселениях, словом, плыл на всех парусах.
IX
Старик Лаврецкий долго не мог простить сыну его свадьбу; если б, пропустя полгода, Иван Петрович явился к нему с повинной головой и бросился ему в ноги, он бы, пожалуй, помиловал его, выбранив его сперва хорошенько и постучав по нем для страха клюкою; но Иван Петрович жил за границей и, по-видимому, в ус себе не дул. «Молчи! Не смей! – твердил Петр Андреич всякий раз жене, как только та пыталась склонить его на милость, – ему, щенку, должно вечно за меня Бога молить, что я клятвы на него не положил; покойный батюшка из собственных рук убил бы его, негодного, и хорошо бы сделал». Анна Павловна, при таких страшных речах, только крестилась украдкой. Что же касается до жены Ивана Петровича, то Петр Андреич сначала и слышать о ней не хотел и даже в ответ на письмо Пестова, в котором тот упоминал о его невестке, велел ему сказать, что он никакой якобы своей невестки не ведает, а что законами воспрещается держать беглых девок, о чем он считает долгом его предупредить; но потом, узнав о рождении внука, смягчился, приказал под рукой осведомиться о здоровье родильницы и послал ей, тоже будто не от себя, немного денег. Феде еще году не минуло, как Анна Павловна занемогла смертельною болезнью. За несколько дней до кончины, уже не вставая с постели, с робкими слезинками на погасающих глазах, объявила она мужу при духовнике, что желает повидаться и проститься с невесткой, благословить внука. Огорченный старик успокоил ее и тотчас же послал собственный свой экипаж за невесткой, в первый раз называя ее Маланьей Сергеевной. Она приехала с сыном и с Марфой Тимофеевной, которая ни за что не хотела отпустить ее одну и не дала бы ее в обиду. Полуживая от страха вошла Маланья Сергеевна в кабинет Петра Андреича. Нянька несла за ней Федю. Петр Андреич молча поглядел на нее; она подошла к его руке; ее трепетные губы едва сложились в беззвучный поцелуй.
– Ну, сыромолотная дворянка, – проговорил он наконец, – здравствуй; пойдем к барыне.
Он встал и нагнулся к Феде; ребенок улыбнулся и протянул к нему свои бледные ручонки. Старика перевернуло.
– Ох, – промолвил он, – сиротливый! Умолил ты меня за отца; не оставлю я тебя, птенчик.
Маланья Сергеевна как вошла в спальню Анны Павловны, так и стала на колени возле двери. Анна Павловна подманила ее к постели, обняла ее, благословила ее сына; потом, обратив обглоданное жестокою болезнью лицо к своему мужу, хотела было заговорить…
– Знаю, знаю, о чем ты просить хочешь, – промолвил Петр Андреич, – не печалься: она останется у нас, и Ваньку для нее помилую.
Анна Павловна с усилием поймала руку мужа и прижалась к ней губами. В тот же вечер ее не стало.
Петр Андреич сдержал свое слово. Он известил сына, что для смертного часа его матери, для младенца Федора он возвращает ему свое благословение и Маланью Сергеевну оставляет у себя в доме. Ей отвели две комнаты в антресолях, он представил ее своим почтеннейшим гостям, кривому бригадиру Скурехину и жене его; подарил ей двух девок и казачка для посылок. Марфа Тимофеевна с ней простилась: она возненавидела Глафиру и в течение одного дня раза три поссорилась с нею.
Тяжело и неловко было сперва бедной женщине; но потом она обтерпелась и привыкла к своему тестю. Он тоже привык к ней, даже полюбил ее, хотя почти никогда не говорил с ней, хотя в самых его ласках к ней замечалось какое-то невольное пренебрежение. Больше всего терпела Маланья Сергеевна от своей золовки. Глафира еще при жизни матери успела понемногу забрать весь дом в руки: все, начиная с отца, ей покорялись; без ее разрешения куска сахару не выдавалось; она скорее согласилась бы умереть, чем поделиться властью с другой хозяйкой, – и какою еще хозяйкой! Свадьба брата раздражила ее еще больше, чем Петра Андреича: она взялась проучить выскочку, и Маланья Сергеевна с первого же часа стала ее рабой. Да и где ж ей было бороться с самовольной, надменной Глафирой, ей, безответной, постоянно смущенной и запуганной, слабой здоровьем? Дня не проходило, чтоб Глафира не напомнила ей прежнего ее положения, не похвалила бы ее за то, что она не забывается. Маланья Сергеевна охотно помирилась бы на этих напоминовениях и похвалах, как горьки они ни были… но Федю у нее отняли: вот что ее сокрушало. Под предлогом, что она не в состоянии заниматься его воспитанием, ее почти не допускали до него; Глафира взялась за это дело; ребенок поступил в ее полное распоряжение. Маланья Сергеевна с горя начала в своих письмах умолять Ивана Петровича, чтобы он вернулся поскорее; сам Петр Андреич желал видеть своего сына; но он все только отписывался, благодарил отца за жену, за присылаемые деньги, обещал приехать вскоре – и не ехал. Двенадцатый год вызвал его, наконец, из-за границы. Увидавшись в первый раз после шестилетней разлуки, отец с сыном обнялись и даже словом не помянули о прежних раздорах; не до того было тогда: вся Россия поднималась на врага, и оба они почувствовали, что русская кровь течет в их жилах. Петр Андреич на свой счет одел целый полк ратников. Но война кончилась, опасность миновалась; Иван Петрович опять заскучал, опять потянуло его вдаль, в тот мир, с которым он сросся и где чувствовал себя дома. Маланья Сергеевна не могла удержать его; она слишком мало для него значила. Даже надежды ее не сбылись: муж ее также нашел, что гораздо приличнее поручить Глафире воспитание Феди. Бедная жена Ивана Петровича не перенесла этого удара, не перенесла вторичной разлуки: безропотно, в несколько дней, угасла она. В течение всей своей жизни не умела она ничему сопротивляться, и с недугом она не боролась. Она уже не могла говорить, уже могильные тени ложились на ее лицо, но черты ее по-прежнему выражали терпеливое недоумение и постоянную кротость смирения; с той же немой покорностью глядела она на Глафиру, и как Анна Павловна на смертном одре поцеловала руку Петра Андреича, так и она приложилась к Глафириной руке, поручая ей, Глафире, своего единственного сына. Так кончило свое земное поприще тихое и доброе существо, Бог знает зачем выхваченное из родной почвы и тотчас же брошенное, как вырванное деревцо, корнями на солнце; оно увяло, оно пропало без следа, это существо, и никто не горевал о нем. Пожалели о Маланье Сергеевне ее горничные да еще Петр Андреич. Старику недоставало ее молчаливого присутствия. «Прости – прощай, моя безответная!» – прошептал он, кланяясь ей в последний раз, в церкви. Он плакал, бросая горсть земли в ее могилу.
Он сам не долго пережил ее, не более пяти лет. Зимой 1819 года он тихо скончался в Москве, куда переехал с Глафирой и внуком, и завещал похоронить себя рядом с Анной Павловной да с «Малашей». Иван Петрович находился тогда в Париже, для своего удовольствия; он вышел в отставку скоро после 1815 года. Узнав о смерти отца, он решился возвратиться в Россию. Надобно было подумать об устройстве имения, да и Феде, по письму Глафиры, минуло двенадцать лет, и наступило время серьезно заняться его воспитанием.
X
Иван Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко остриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртук со множеством воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы, деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политический и политико-экономический разговор, страсть к кровавым ростбифам и портвейну – все в нем так и веяло Великобританией; весь он казался пропитан ее духом. Но – чудное дело! – превратившись в англомана, Иван Петрович стал в то же время патриотом, по крайней мере он называл себя патриотом, хотя Россию знал плохо, не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно: в обыкновенной беседе речь его, неповоротливая и вялая, вся пестрела галлицизмами; но чуть разговор касался предметов важных, у Ивана Петровича тотчас являлись выражения вроде: «оказать новые опыты самоусердия», «сие не согласуется с самою натурою обстоятельства» и т. д. Иван Петрович привез с собою несколько рукописных планов, касавшихся до устройства и улучшения государства; он очень был недоволен всем, что видел, – отсутствие системы в особенности возбуждало его желчь. При свидании с сестрою он с первых же слов объявил ей, что он намерен ввести коренные преобразования, что впредь у него все будет идти по новой системе. Глафира Петровна ничего не отвечала Ивану Петровичу, только зубы стиснула и подумала: «Куда же я-то денусь?» Впрочем, приехавши в деревню вместе с братом и племянником, она скоро успокоилась. В доме точно произошли некоторые перемены: приживальщики и тунеядцы подверглись немедленному изгнанию; в числе их пострадали две старухи, одна – слепая, другая – разбитая параличом, да еще дряхлый майор очаковских времен, которого, по причине его действительно замечательной жадности, кормили одним черным хлебом да чечевицей. Также вышел приказ не принимать прежних гостей: всех их заменил дальний сосед, какой-то белокурый золотушный барон, очень хорошо воспитанный и очень глупый человек. Появились новые мебели из Москвы; завелись плевательницы, колокольчики, умывальные столики; завтрак стал иначе подаваться; иностранные вина изгнали водки и наливки; людям пошили новые ливреи; к фамильному гербу прибавилась подпись: «In recto virtus…»[10 - В законности – добродетель… (лат.)]. В сущности же власть Глафиры нисколько не уменьшилась: все выдачи, покупки по-прежнему от нее зависели; вывезенный из-за границы камердинер из эльзасцев попытался было с нею потягаться – и лишился места, несмотря на то что барин ему покровительствовал. Что же до хозяйства, до управления имениями (Глафира Петровна входила и в эти дела), то, несмотря на неоднократно выраженное Иваном Петровичем намерение: вдохнуть новую жизнь в этот хаос, – все осталось по-старому, только оброк кой-где прибавился, да барщина стала потяжелее, да мужикам запретили обращаться прямо к Ивану Петровичу. Патриот очень уж презирал своих сограждан. Система Ивана Петровича в полной силе своей применена была только к Феде; воспитание его действительно подверглось «коренному преобразованию»: отец исключительно занялся им.
XI
До возвращения Ивана Петровича из-за границы Федя находился, как уже сказано, на руках Глафиры Петровны. Ему не было восьми лет, когда мать его скончалась; он видел ее не каждый день и полюбил ее страстно: память о ней, об ее тихом и бледном лице, об ее унылых взглядах и робких ласках навеки запечатлелась в его сердце; но он смутно понимал ее положение в доме; он чувствовал, что между им и ею существовала преграда, которую она не смела и не могла разрушить. Отца он дичился, да и сам Иван Петрович никогда не ласкал его; дедушка изредка гладил его по головке и допускал к руке, но называл его букой и считал дурачком. После смерти Маланьи Сергеевны тетка окончательно забрала его в руки. Федя боялся ее, боялся ее светлых и зорких глаз, ее резкого голоса; он не смел пикнуть при ней; бывало, он только что зашевелится на своем стуле, уж она и шипит: «Куда? Сиди смирно». По воскресеньям, после обедни, позволяли ему играть, то есть давали ему толстую книгу, таинственную книгу, сочинение некоего Максимовича-Амбодика, под заглавием «Символы и эмблемы». В этой книге помещалось около тысячи частью весьма загадочных рисунков, с столь же загадочными толкованиями на пяти языках. Купидон с голым и пухлым телом играл большую роль в этих рисунках. К одному из них, под названием «Шафран и радуга», относилось толкование: «Действие сего есть большее»; против другого, изображавшего «Цаплю, летящую с фиалковым цветком во рту», стояла надпись: «Тебе все они суть известны». «Купидон и медведь, лижущий своего медвежонка» означали: «Мало-помалу». Федя рассматривал эти рисунки; все были ему знакомы до малейших подробностей; некоторые, всегда одни и те же, заставляли его задумываться и будили его воображение; других развлечений он не знал. Когда наступила пора учить его языкам и музыке, Глафира Петровна наняла за бесценок старую девицу, шведку с заячьими глазами, которая с грехом пополам говорила по-французски и по-немецки, кое-как играла на фортепьяно да, сверх того, отлично солила огурцы. В обществе этой наставницы, тетки да старой сенной девушки Васильевны провел Федя целых четыре года. Бывало, сидит он в уголке с своими «Эмблемами» – сидит… сидит; в низкой комнате пахнет гераниумом, тускло горит одна сальная свечка, сверчок трещит однообразно, словно скучает, маленькие часы торопливо чикают на стене, мышь украдкой скребется и грызет за обоями, а три старые девы, словно парки, молча и быстро шевелят спицами, тени от рук их то бегают, то странно дрожат в полутьме, и странные, также полутемные мысли роятся в голове ребенка. Никто бы не назвал Федю интересным дитятей: он был довольно бледен, но толст, нескладно сложен и неловок, – настоящий мужик, по выражению Глафиры Петровны; бледность скоро бы исчезла с его лица, если б его почаще выпускали на воздух. Учился он порядочно, хотя часто ленился; он никогда не плакал; зато по временам находило на него дикое упрямство; тогда уже никто не мог с ним сладить. Федя не любил никого из окружавших его… Горе сердцу, не любившему смолоду!
Таким-то нашел его Иван Петрович и, не теряя времени, принялся применять к нему свою систему. «Я из него хочу сделать человека прежде всего, un homme, – сказал он Глафире Петровне, – и не только человека, но спартанца». Исполнение своего намерения Иван Петрович начал с того, что одел сына по-шотландски: двенадцатилетний малый стал ходить с обнаженными икрами и с петушьим пером на окладном картузе; шведку заменил молодой швейцарец, изучивший гимнастику до совершенства; музыку, как занятие недостойное мужчины, изгнали навсегда; естественные науки, международное право, математика, столярное ремесло, по совету Жан-Жака Руссо, и геральдика, для поддержания рыцарских чувств, – вот чем должен был заниматься будущий «человек»; его будили в четыре часа утра, тотчас окачивали холодною водой и заставляли бегать вокруг высокого столба на веревке; ел он раз в день по одному блюду, ездил верхом, стрелял из арбалета; при всяком удобном случае упражнялся, по примеру родителя, в твердости воли и каждый вечер вносил в особую книгу отчет прошедшего дня и свои впечатления; а Иван Петрович, с своей стороны, писал ему наставления по-французски, в которых он называл его mon fils[11 - Мой сын (франц.).] и говорил ему vous[12 - Вы (франц.).]. По-русски Федя говорил отцу: «ты», но в его присутствии не смел садиться. «Система» сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голове, притиснула ее; но зато на его здоровье новый образ жизни благодетельно подействовал: сначала он схватил горячку, но вскоре оправился и стал молодцом. Отец гордился им и называл его на своем странном наречии: сын натуры, произведение мое. Когда Феде минул шестнадцатый год, Иван Петрович почел за долг заблаговременно поселить в него презрение к женскому полу, – и молодой спартанец, с робостью на душе, с первым пухом на губах, полный соков, сил и крови, уже старался казаться равнодушным, холодным и грубым.
Между тем время шло да шло. Иван Петрович большую часть года проводил в Лавриках (так называлось главное его родовое имение), а по зимам приезжал в Москву один, останавливался в трактире, прилежно посещал клуб, ораторствовал и развивал свои планы в гостиных и более чем когда-либо держался англоманом, брюзгой и государственным человеком. Но настал 1825 год и много принес с собою горя. Близкие знакомые и приятели Ивана Петровича подверглись тяжким испытаниям. Иван Петрович поспешил удалиться в деревню и заперся в своем доме. Прошел еще год, и Иван Петрович вдруг захилел, ослабел, опустился; здоровье ему изменило. Вольнодумец – начал ходить в церковь и заказывать молебны; европеец – стал париться в бане, обедать в два часа, ложиться в девять, засыпать под болтовню старого дворецкого; государственный человек – сжег все свои планы, всю переписку, трепетал перед губернатором и егозил перед исправником; человек с закаленною волей – хныкал и жаловался, когда у него вскакивал веред, когда ему подавали тарелку холодного супу. Глафира Петровна опять завладела всем в доме; опять начали ходить с заднего крыльца приказчики, бурмистры, простые мужики к «старой колотовке», – так прозывали ее дворовые люди. Перемена в Иване Петровиче сильно поразила его сына; ему уже пошел девятнадцатый год, и он начинал размышлять и высвобождаться из-под гнета давившей его руки. Он и прежде замечал разладицу между словами и делами отца, между его широкими либеральными теориями и черствым, мелким деспотизмом; но он не ожидал такого крутого перелома. Застарелый эгоист вдруг выказался весь. Молодой Лаврецкий собирался ехать в Москву, подготовиться в университет, – неожиданное, новое бедствие обрушилось на голову Ивана Петровича: он ослеп, и ослеп безнадежно, в один день.
Не доверяя искусству русских врачей, он стал хлопотать о позволении отправиться за границу. Ему отказали. Тогда он взял с собою сына и целых три года проскитался по России от одного доктора к другому, беспрестанно переезжая из города в город и приводя в отчаяние врачей, сына, прислугу своим малодушием и нетерпением. Совершенной тряпкой, плаксивым и капризным ребенком воротился он в Лаврики. Наступили горькие денечки, натерпелись от него все. Иван Петрович утихал только, пока обедал; никогда он так жадно и так много не ел; все остальное время он ни себе, никому не давал покоя. Он молился, роптал на судьбу, бранил себя, бранил политику, свою систему, бранил все, чем хвастался и кичился, все, что ставил некогда сыну в образец; твердил, что ни во что не верит, и молился снова; не выносил ни одного мгновенья одиночества и требовал от своих домашних, чтоб они постоянно, днем и ночью, сидели возле его кресел и занимали его рассказами, которые он то и дело прерывал восклицаниями: «Вы все врете – экая чепуха!»
Особенно доставалось Глафире Петровне; он решительно не мог обойтись без нее – и она до конца исполняла все прихоти больного, хотя иногда не тотчас решалась отвечать ему, чтобы звуком голоса не выдать душившей ее злобы. Так проскрипел он еще два года и умер в первых числах мая, вынесенный на балкон, на солнце. «Глаша, Глашка! бульонцу, бульонцу, старая дур…», – пролепетал его коснеющий язык и, не договорив последнего слова, умолк навеки. Глафира Петровна, которая только что выхватила чашку бульону из рук дворецкого, остановилась, посмотрела брату в лицо, медленно, широко перекрестилась и удалилась молча; а тут же находившийся сын тоже ничего не сказал, оперся на перила балкона и долго глядел в сад, весь благовонный и зеленый, весь блестевший в лучах золотого весеннего солнца. Ему было двадцать три года; как страшно, как незаметно скоро пронеслись эти двадцать три года!.. Жизнь открывалась перед ним.
XII
Схоронив отца и поручив той же неизменной Глафире Петровне заведывание хозяйством и надзор за приказчиками, молодой Лаврецкий отправился в Москву, куда влекло его темное, но сильное чувство. Он сознавал недостатки своего воспитания и вознамерился по возможности воротить упущенное. В последние пять лет он много прочел и кое-что увидел; много мыслей перебродило в его голове; любой профессор позавидовал бы некоторым его познаниям, но в то же время он не знал многого, что каждому гимназисту давным-давно известно. Лаврецкий сознавал, что он не свободен; он втайне чувствовал себя чудаком. Недобрую шутку сыграл англоман с своим сыном; капризное воспитание принесло свои плоды. Долгие годы он безотчетно смирялся перед отцом своим; когда же, наконец, он разгадал его, дело уже было сделано, привычки вкоренились. Он не умел сходиться с людьми; двадцати трех лет от роду, с неукротимой жаждой любви в пристыженном сердце, он еще ни одной женщине не смел взглянуть в глаза. При его уме, ясном и здравом, но несколько тяжелом, при его наклонности к упрямству, созерцанию и лени ему бы следовало с ранних лет попасть в жизненный водоворот, а его продержали в искусственном уединении… И вот заколдованный круг расторгся, а он продолжал стоять на одном месте, замкнутый и сжатый в самом себе. Смешно было в его года надеть студентский мундир; но он не боялся насмешек: его спартанское воспитание хоть на то пригодилось, что развило в нем пренебрежение к чужим толкам, – и он надел, не смущаясь, студентский мундир. Он поступил в физико-математическое отделение. Здоровый, краснощекий, уже с заросшей бородой, молчаливый, он производил странное впечатление на своих товарищей; они и не подозревали того, что в этом суровом муже, аккуратно приезжавшем на лекции в широких деревенских санях парой, таился чуть не ребенок. Он им казался каким-то мудреным педантом, они в нем не нуждались и не искали в нем, он избегал их. В течение первых двух лет, проведенных им в университете, он сблизился только с одним студентом, у которого брал уроки в латинском языке. Студент этот, по имени Михалевич, энтузиаст и стихотворец, искренно полюбил Лаврецкого и совершенно случайно стал виновником важной перемены в его судьбе.
Однажды, в театре (Мочалов находился тогда на высоте своей славы, и Лаврецкий не пропускал ни одного представления), увидел он в ложе бельэтажа девушку, – и хотя ни одна женщина не проходила мимо его угрюмой фигуры, не заставив дрогнуть его сердце, никогда еще оно так сильно не забилось. Облокотясь на бархат ложи, девушка не шевелилась; чуткая, молодая жизнь играла в каждой черте ее смуглого, круглого, миловидного лица; изящный ум сказывался в прекрасных глазах, внимательно и мягко глядевших из-под тонких бровей, в быстрой усмешке выразительных губ, в самом положении ее головы, рук, шеи; одета она была прелестно. Рядом с нею сидела сморщенная и желтая женщина лет сорока пяти, декольте, в черном токе, с беззубою улыбкой на напряженно озабоченном и пустом лице, а в углублении ложи виднелся пожилой мужчина, в широком сюртуке и высоком галстуке, с выражением тупой величавости и какой-то заискивающей подозрительности в маленьких глазках, с крашеными усами и бакенбардами, незначительным огромным лбом и измятыми щеками, по всем признакам отставной генерал. Лаврецкий не отводил взора от поразившей его девушки; вдруг дверь ложи отворилась, и вошел Михалевич. Появление этого человека, почти единственного его знакомого во всей Москве, появление его в обществе единственной девушки, поглотившей все его внимание, показалось Лаврецкому знаменательно и странно. Продолжая посматривать на ложу, он заметил, что все находившиеся в ней лица обращались с Михалевичем как с старинным приятелем. Представление на сцене переставало занимать Лаврецкого; сам Мочалов, хотя и был в тот вечер «в ударе», не производил на него обычного впечатления. В одном очень патетическом месте Лаврецкий невольно взглянул на свою красавицу: она вся наклонилась вперед, щеки ее пылали; под влиянием его упорного взора глаза ее, устремленные на сцену, медленно обратились и остановились на нем… Всю ночь мерещились ему эти глаза. Прорвалась, наконец, искусственно возведенная плотина; он и дрожал и горел, и на другой же день отправился к Михалевичу. Он узнал от него, что красавицу звали Варварой Павловной Коробьиной; что старик и старуха, сидевшие с ней в ложе, были отец ее и мать и что сам он, Михалевич, познакомился с ними год тому назад, во время своего пребывания в подмосковной на «кондиции» у графа Н. С величайшей похвалой отозвался энтузиаст о Варваре Павловне. «Это, брат ты мой, – воскликнул он со свойственною ему порывистой певучестью в голосе, – эта девушка – изумительное, гениальное существо, артистка в настоящем смысле слова, и притом предобрая». Заметив из расспросов Лаврецкого, какое впечатление произвела на него Варвара Павловна, он сам предложил ему познакомить его с нею, прибавив, что он у них как свой; что генерал человек совсем не гордый, а мать так глупа, что только тряпки не сосет. Лаврецкий покраснел, пробормотал что-то невнятное и убежал. Целых пять дней боролся он со своею робостью; на шестой день молодой спартанец надел новенький мундир и отдался в распоряжение Михалевичу, который, будучи своим человеком, ограничился тем, что причесал себе волосы, – и оба отправились к Коробьиным.
XIII
Отец Варвары Павловны, Павел Петрович Коробьин, генерал-майор в отставке, весь свой век провел в Петербурге на службе, слыл в молодости ловким танцором и фрунтовиком, находился, по бедности, адъютантом при двух-трех невзрачных генералах, женился на дочери одного из них, взяв тысяч двадцать пять приданого, до тонкости постиг всю премудрость учений и смотров; тянул, тянул лямку и, наконец, годиков через двадцать добился генеральского чина, получил полк. Тут бы ему отдохнуть и упрочить, не спеша, свое благосостояние; он на это и рассчитывал, да немножко неосторожно повел дело; он придумал было новое средство пустить в оборот казенные деньги, – средство оказалось отличное, но он не вовремя поскупился: на него донесли; вышла более чем неприятная, вышла скверная история. Кое-как отвертелся генерал от истории, но карьера его лопнула: ему посоветовали выйти в отставку. Года два потолкался он еще в Петербурге, в надежде, не наскочит ли на него тепленькое статское место; но место на него не наскакивало; дочь вышла из института, расходы увеличивались с каждым днем… Скрепя сердце решился он переехать в Москву на дешевые хлеба, нанял в Старой Конюшенной крошечный низенький дом с саженным гербом на крыше и зажил московским отставным генералом, тратя 2750 рублей в год. Москва – город хлебосольный, рада принимать встречных и поперечных, а генералов и подавно; грузная, но не без военной выправки, фигура Павла Петровича скоро стала появляться в лучших московских гостиных. Его голый затылок, с косицами крашеных волос и засаленной анненской лентой на галстуке цвета воронова крыла, стал хорошо известен всем скучливым и бледным юношам, угрюмо скитающимся во время танцев вокруг игорных столов. Павел Петрович сумел поставить себя в обществе; говорил мало, но, по старой привычке, в нос, – конечно, не с лицами чинов высших; осторожно играл в карты, дома ел умеренно, а в гостях за шестерых. О жене его почти сказать нечего; звали ее Каллиопой Карловной; из левого ее глаза сочилась слезинка, в силу чего Каллиопа Карловна (притом же она была немецкого происхождения) сама считала себя за чувствительную женщину; она постоянно чего-то все боялась, словно не доела, и носила узкие бархатные платья, ток и тусклые дутые браслеты. Единственной дочери Павла Петровича и Каллиопы Карловны, Варваре Павловне, только что минул семнадцатый год, когда она вышла из…ского института, где считалась если не первою красавицей, то уж наверное первою умницей и лучшею музыкантшей и где получила шифр; ей еще девятнадцати лет не было, когда Лаврецкий увидел ее в первый раз.
XIV
Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевич ввел его в довольно плохо убранную гостиную Коробьиных и представил хозяевам. Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло: в генерале врожденное всем русским добродушие еще усугублялось тою особенного рода приветливостью, которая свойственна всем немного замаранным людям; генеральша как-то скоро стушевалась; что же касается до Варвары Павловны, то она так была спокойна и самоуверенно-ласкова, что всякий в ее присутствии тотчас чувствовал себя как бы дома; притом от всего ее пленительного тела, от улыбавшихся глаз, от невинно-покатых плечей и бледно-розовых рук, от легкой и в то же время как бы усталой походки, от самого звука ее голоса, замедленного, сладкого, – веяло неуловимой, как тонкий запах, вкрадчивой прелестью, мягкой, пока еще стыдливой, негой, чем-то таким, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждало, – и уже, конечно, возбуждало не робость. Лаврецкий навел речь на театр, на вчерашнее представление; она тотчас сама заговорила о Мочалове и не ограничилась одними восклицаниями и вздохами, но произнесла несколько верных и женски-проницательных замечаний насчет его игры. Михалевич упомянул о музыке; она, не чинясь, села за фортепьяно и отчетливо сыграла несколько шопеновских мазурок, тогда только что входивших в моду. Настал час обеда; Лаврецкий хотел удалиться, но его удержали; за столом генерал потчевал его хорошим лафитом, за которым генеральский лакей на извозчике скакал к Депре. Поздно вечером вернулся Лаврецкий домой и долго сидел, не раздеваясь и закрыв глаза рукою, в оцепенении очарования. Ему казалось, что он теперь только понимал, для чего стоит жить; все его предположения, намерения, весь этот вздор и прах, исчезли разом; вся душа его слилась в одно чувство, в одно желание, в желание счастья, обладания, любви, сладкой женской любви. С того дня он часто стал ходить к Коробьиным. Полгода спустя он объяснился Варваре Павловне и предложил ей свою руку. Предложение его было принято; генерал давным-давно, чуть ли не накануне первого посещения Лаврецкого, спросил у Михалевича, сколько у него, Лаврецкого, душ; да и Варваре Павловне, которая во все время ухаживания молодого человека и даже в самое мгновение признания сохранила обычную безмятежность и ясность души, – и Варваре Павловне хорошо было известно, что жених ее богат; а Каллиопа Карловна подумала: «Meine Tochter macht eine sch?ne Partie»[13 - Моя дочь делает прекрасную партию (нем.).], – и купила себе новый ток.
XV
Итак, предложение его было принято, но с некоторыми условиями. Во-первых, Лаврецкий должен был немедленно оставить университет: кто ж выходит за студента, да и что за странная мысль – помещику, богатому, в 26 лет брать уроки, как школьнику? Во-вторых, Варвара Павловна взяла на себя труд заказать и закупить приданое, выбрать даже жениховы подарки. У ней было много практического смысла, много вкуса и очень много любви к комфорту, много уменья доставлять себе этот комфорт. Это уменье особенно поразило Лаврецкого, когда, тотчас после свадьбы, он вдвоем с женою отправился в удобной, ею купленной каретке в Лаврики. Как все, что окружало его, было обдумано, предугадано, предусмотрено Варварой Павловной! Какие появились в разных уютных уголках прелестные дорожные несессеры, какие восхитительные туалетные ящики и кофейники, и как мило Варвара Павловна сама варила кофе по утрам! Впрочем, Лаврецкому было тогда не до наблюдений: он блаженствовал, упивался счастием; он предавался ему, как дитя… Он и был невинен, как дитя, этот юный Алкид. Недаром веяло прелестью от всего существа его молодой жены; недаром сулила она чувству тайную роскошь неизведанных наслаждений; она сдержала больше, чем сулила. Приехавши в Лаврики в самый разгар лета, она нашла дом грязным и темным, прислугу смешною и устарелою, но не почла за нужное даже намекнуть о том мужу. Если бы она располагала основаться в Лавриках, она бы все в них переделала, начиная, разумеется, с дома; но мысль остаться в этом степном захолустье ни на миг не приходила ей в голову; она жила в нем, как в палатке, кротко перенося все неудобства и забавно подтрунивая над ними. Марфа Тимофеевна приехала повидаться с своим воспитанником; она очень понравилась Варваре Павловне, но ей Варвара Павловна не понравилась. С Глафирой Петровной новая хозяйка тоже не поладила; она бы ее оставила в покое, но старику Коробьину захотелось запустить руки в дела зятя: управлять имением такого близкого родственника, говорил он, не стыдно даже генералу. Полагать должно, что Павел Петрович не погнушался бы заняться имением и вовсе чуждого ему человека. Варвара Павловна повела свою атаку весьма искусно; не выдаваясь вперед, по-видимому вся погруженная в блаженство медовых месяцев, в деревенскую тихую жизнь, в музыку и чтение, она понемногу довела Глафиру до того, что та в одно утро вбежала, как бешеная, в кабинет Лаврецкого и, швырнув связку ключей на стол, объявила, что не в силах больше заниматься хозяйством и не хочет оставаться в деревне. Надлежащим образом подготовленный, Лаврецкий тотчас согласился на ее отъезд. Этого Глафира Петровна не ожидала. «Хорошо, – сказала она, и глаза ее потемнели, – я вижу, что я здесь лишняя! Знаю, кто меня отсюда гонит, с родового моего гнезда. Только ты помяни мое слово, племянник: не свить же и тебе гнезда нигде, скитаться тебе век. Вот тебе мой завет». В тот же день она удалилась в свою деревеньку, а через неделю прибыл генерал Коробьин и, с приятною меланхолией во взглядах и движениях, принял управление всем имением на свои руки.
В сентябре месяце Варвара Павловна увезла своего мужа в Петербург. Две зимы провела она в Петербурге (на лето они переселялись в Царское Село), в прекрасной, светлой, изящно меблированной квартире; много завели они знакомств в средних и даже высших кругах общества, много выезжали и принимали, давали прелестнейшие музыкальные и танцевальные вечеринки. Варвара Павловна привлекала гостей, как огонь бабочек. Федору Иванычу не совсем-то нравилась такая рассеянная жизнь. Жена советовала ему вступить на службу; он, по старой отцовской памяти, да и по своим понятиям, не хотел служить, но в угоду Варваре Павловне оставался в Петербурге. Впрочем, он скоро догадался, что никто не мешал ему уединиться, что недаром у него самый покойный и уютный кабинет во всем Петербурге, что заботливая жена даже готова помочь ему уединяться, – и с тех пор все пошло прекрасно. Он принялся опять за собственное, по его мнению недоконченное, воспитание, опять стал читать, приступил даже к изучению английского языка. Странно было видеть его могучую, широкоплечую фигуру, вечно согнутую над письменным столом, его полное, волосатое, румяное лицо, до половины закрытое листами словаря или тетради. Каждое утро он проводил за работой, обедал отлично (Варвара Павловна была хозяйка хоть куда), а по вечерам вступал в очарованный, пахучий, светлый мир, весь населенный молодыми веселыми лицами, – и средоточием этого мира была та же рачительная хозяйка, его жена. Она порадовала его рождением сына, но бедный мальчик жил недолго; он умер весной, а летом, по совету врачей, Лаврецкий повез жену за границу, на воды. Рассеяние было ей необходимо после такого несчастья, да и здоровье ее требовало теплого климата. Лето и осень они провели в Германии и Швейцарии, а на зиму, как оно и следовало ожидать, поехали в Париж. В Париже Варвара Павловна расцвела, как роза, и так же скоро и ловко, как в Петербурге, сумела свить себе гнездышко. Квартиру она нашла премиленькую, в одной из тихих, но модных улиц Парижа; мужу сшила такой шлафрок, какого он еще и не нашивал; наняла щегольскую служанку, отличную повариху, расторопного лакея; приобрела восхитительную каретку, прелестный пианино. Не прошло недели, как уже она перебиралась через улицу, носила шаль, раскрывала зонтик и надевала перчатки не хуже самой чистокровной парижанки. И знакомыми она скоро обзавелась. Сперва к ней ездили одни русские, потом стали появляться французы, весьма любезные, учтивые, холостые, с прекрасными манерами, с благозвучными фамилиями; все они говорили скоро и много, развязно кланялись, приятно щурили глаза; белые зубы сверкали у всех под розовыми губами, – и как они умели улыбаться! Каждый из них приводил своих друзей, и la belle madame de Lavretzki[14 - Очаровательная мадам Лаврецкая (франц.).] скоро стала известна от Chaussеe d’Antin до Rue de Lille[15 - От Шоссе д’Антен до улицы Лилль (франц.).]. В те времена (дело происходило в 1836 году) еще не успело развестись племя фельетонистов и хроникеров, которое теперь кипит повсюду, как муравьи в разрытой кочке; но уж тогда появлялся в салоне Варвары Павловны некто m-r Jules, неблаговидной наружности господин, с скандалезной репутацией, наглый и низкий, как все дуэлисты и битые люди. Этот m-r Jules был очень противен Варваре Павловне, но она его принимала, потому что он пописывал в разных газетах и беспрестанно упоминал о ней, называя ее то m-me de L…tzki, то m-me de ***, cette grande dame russe si distinguеe, qui demeure rue de P…[16 - Эта знатная русская дама, такая изящная, которая живет на улице П… (франц.)]; рассказывал всему свету, то есть нескольким сотням подписчиков, которым не было никакого дела до m-me de L…tzki, как эта дама, настоящая по уму француженка (une vraie fran?aise par l’esprit) – выше этого у французов похвал нет – мила и любезна, какая она необыкновенная музыкантша и как она удивительно вальсирует (Варвара Павловна действительно так вальсировала, что увлекала все сердца за краями своей легкой, улетающей одежды)… словом, пускал о ней молву по миру, – а ведь это, что ни говорите, приятно. Девица Марс уже сошла тогда со сцены, а девица Рашель еще не появлялась; тем не менее Варвара Павловна прилежно посещала театры. Она приходила в восторг от итальянской музыки и смеялась над развалинами Одри, прилично зевала во Французской комедии и плакала от игры г-жи Дорваль в какой-нибудь ультраромантической мелодраме; а главное, Лист у ней играл два раза и так был мил, так прост – прелесть! В таких приятных ощущениях прошла зима, к концу которой Варвара Павловна была даже представлена ко двору. Федор Иваныч, с своей стороны, не скучал, хотя жизнь подчас тяжела становилась у него на плечах, – тяжела, потому что пуста. Он читал газеты, слушал лекции в Sorbonne и Coll?ge de France, следил за прениями палат, принялся за перевод известного ученого сочинения об ирригациях. «Я не теряю времени, – думал он, – все это полезно; но к будущей зиме надобно непременно вернуться в Россию и приняться за дело». Трудно сказать, ясно ли он сознавал, в чем собственно состояло это дело, и Бог знает, удалось ли бы ему вернуться в Россию к зиме; пока он ехал с женою в Баден-Баден… Неожиданный случай разрушил все его планы.
XVI
Войдя однажды в отсутствие Варвары Павловны в ее кабинет, Лаврецкий увидал на полу маленькую, тщательно сложенную бумажку. Он машинально ее поднял, машинально развернул и прочел следующее, написанное на французском языке:
«Милый ангел Бетси! (я никак не решаюсь назвать тебя Barbe или Варвара – Varvara). Я напрасно прождал тебя на углу бульвара; приходи завтра в половине второго на нашу квартирку. Твой добрый толстяк (ton gros bonhomme de mari) об эту пору обыкновенно зарывается в свои книги; мы опять споем ту песенку вашего поэта Пускина (de votre po?te Pouskine), которой ты меня научила: «Старый муж, грозный муж!» – Тысячу поцелуев твоим ручкам и ножкам. Я жду тебя.
Эрнест».
Лаврецкий не сразу понял, что такое он прочел; прочел во второй раз – и голова у него закружилась, пол заходил под ногами, как палуба корабля во время качки. Он и закричал, и задохнулся, и заплакал в одно мгновение.
Он обезумел. Он так слепо доверял своей жене; возможность обмана, измены никогда не представлялась его мысли. Этот Эрнест, этот любовник его жены, был белокурый, смазливый мальчик лет двадцати трех, со вздернутым носиком и тонкими усиками, едва ли не самый ничтожный изо всех ее знакомых. Прошло несколько минут, прошло полчаса; Лаврецкий все стоял, стискивая роковую записку в руке и бессмысленно глядя на пол; сквозь какой-то темный вихрь мерещились ему бледные лица; мучительно замирало сердце; ему казалось, что он падал, падал, падал… и конца не было. Знакомый легкий шум шелкового платья вывел его из оцепенения; Варвара Павловна, в шляпе и шали, торопливо возвращалась с прогулки. Лаврецкий затрепетал весь и бросился вон; он почувствовал, что в это мгновенье он был в состоянии истерзать ее, избить ее до полусмерти, по-мужицки, задушить ее своими руками. Изумленная Варвара Павловна хотела остановить его; он мог только прошептать: «Бетси» – и выбежал из дому.
Лаврецкий взял карету и велел везти себя за город. Весь остаток дня и всю ночь до утра пробродил он, беспрестанно останавливаясь и всплескивая руками: он то безумствовал, то ему становилось как будто смешно, даже как будто весело. Утром он прозяб и зашел в дрянной загородный трактир, спросил комнату и сел на стул перед окном. Судорожная зевота напала на него. Он едва держался на ногах, тело его изнемогало, а он и не чувствовал усталости, – зато усталость брала свое: он сидел, глядел и ничего не понимал; не понимал, что с ним такое случилось, отчего он очутился один, с одеревенелыми членами, с горечью во рту, с камнем на груди, в пустой незнакомой комнате; он не понимал, что заставило ее, Варю, отдаться этому французу, и как могла она, зная себя неверной, быть по-прежнему спокойной, по-прежнему ласковой и доверчивой с ним! «Ничего не понимаю! – шептали его засохшие губы. – Кто мне поручится теперь, что в Петербурге…» И он не доканчивал вопроса и зевал опять, дрожа и пожимаясь всем телом. Светлые и темные воспоминания одинаково его терзали; ему вдруг пришло в голову, что на днях она при нем и при Эрнесте села за фортепьяно и спела: «Старый муж, грозный муж!» Он вспомнил выражение ее лица, странный блеск глаз и краску на щеках, – и он поднялся со стула, он хотел пойти, сказать им: «Вы со мной напрасно пошутили; прадед мой мужиков за ребра вешал, а дед мой сам был мужик», – да убить их обоих. То вдруг ему казалось, что все, что с ним делается, сон, и даже не сон, а так, вздор какой-то; что стоит только встряхнуться, оглянуться… Он оглядывался, и, как ястреб когтит пойманную птицу, глубже и глубже врезывалась тоска в его сердце. К довершению всего, Лаврецкий через несколько месяцев надеялся быть отцом… Прошедшее, будущее, вся жизнь была отравлена. Он вернулся наконец в Париж, остановился в гостинице и послал Варваре Павловне записку г-на Эрнеста с следующим письмом: