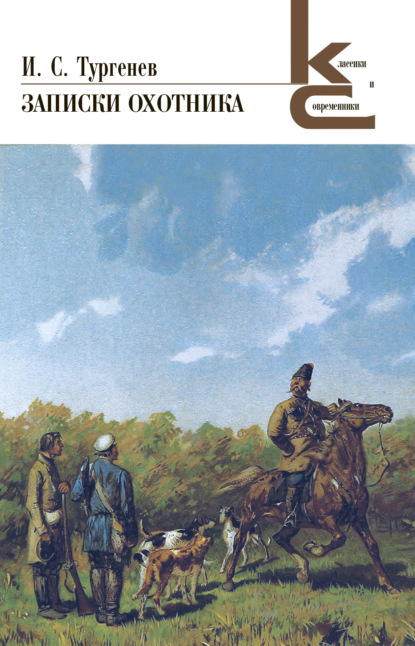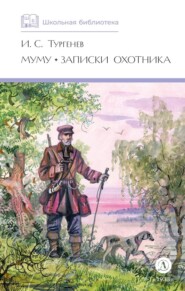По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Записки охотника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, жени меня, коли так. А? что! Что ж ты молчишь?
– Ну, полно, полно, балагур. Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю, небось… А ты, батюшка, не гневись: дитятко, видишь, малое, разуму не успело набраться.
Федя покачал головой…
– Дома Хорь? – раздался за дверью знакомый голос, и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика.
Я в этот день пошел на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного и следующие три дня провел у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек… Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь; например: он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же – к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился; например: из его рассказов узнал я, что каждое лето, перед покосом, появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет рубль двадцать пять копеек – полтора рубля ассигнациями; в долг – три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стало быть заплатить есть чем; он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние; их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их же пользы, поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». Такой «орел» получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но, в противность благородной птице, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело: напротив, «орел» прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближенье и крадутся к нему навстречу. Второпях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает «орлу» не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную паневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности «замашки», – важное распространение и усовершенствование промышленности «орлов»! Но зато мужики, в свою очередь, навострились и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении «орла» быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они ее точно продают, – не в городе, в город надо самим тащиться, а приезжим торгашам, которые, за неимением безмена, считают пуд в сорок горстей – а вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно, когда он «усердствует»! – Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не все рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось… Калиныч от него не отставал; но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал все по порядку: «Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка, как же?..» – «А! ах, Господи, твоя воля!» – восклицал Калиныч во время моего рассказа; Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо – это порядок». Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убежденье, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, – убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя, он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо – то ему и нравится, что разумно – того ему и подавай, а откуда оно идет, – ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положенья, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь, как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положенье. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познанья были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел; Калиныч – умел. «Этому шалопаю грамота далась, – заметил Хорь, – у него и пчелы отродясь не мерли». – «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает». – «А другие?» – «Другие не знают». – «А что?» Старик не отвечал и переменил разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе Божием. Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин! не бьешь ты жены, не бьешь молодой…» Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря; но он спокойно возразил мне, что «охота-де вам такими… пустяками заниматься, – пускай бабы ссорятся… Их что разнимать – то хуже, да и рук марать не стоит». Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая: «Сюды, сюды, собачка!» – и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и «лаялась», как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и, по его приказанию, убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорем, когда дело доходило до г-на Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», – говорил Калиныч. «А что ж он тебе сапогов не сошьет?» – возражал тот. «Эка, сапоги!.. на что мне сапоги? Я мужик…» – «Да вот и я мужик, а вишь…» При этом слове Хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат!» – отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапти дал: ведь ты с ним на охоту ходишь; чай, что день, то лапти». – «Он мне дает на лапти». – «Да, в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно.
Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню: «Доля ты моя, доля!» Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю… Зато в другое время не было человека деятельнее его: вечно над чем-нибудь копается – телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо-де избе жильем пахнуть».
– Посмотри-ка, – возразил я ему, – как у Калиныча на пасеке чисто.
– Пчелы бы жить не стали, батюшка, – сказал он со вздохом.
«А что, – спросил он меня в другой раз, – у тебя своя вотчина есть?» – «Есть». – «Далеко отсюда?» – «Верст сто». – «Что же ты, батюшка, живешь в своей вотчине?» – «Живу». – «А больше, чай, ружьем пробавляешься?» – «Признаться, да». – «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себе на здоровье тетеревов, да старосту меняй почаще».
На четвертый день, вечером, г. Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров, – сказал я… – Прощай, Федя». – «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали; заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», – заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдет, – возразил мне Калиныч, – утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел да глядел на зарю…
На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина.
Ермолай и мельничиха
Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на «тягу»… Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа.
За четверть часа до захождения солнца, весной, вы входите в рощу с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло; воздух чист и прозрачен; птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда… вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых, веток к неподвижным, засыпающим верхушкам… Вот и самые верхушки потускнели, румяное небо синеет. Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают – не все вдруг – по породам: вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу все темней да темней. Деревья сливаются в большие, чернеющие массы; на синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятлы одни еще сонливо посвистывают… Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданьем, и вдруг – но одни охотники поймут меня, – вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл – и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу.
Вот что значит «стоять на тяге».
Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу; но извините, господа: я должен вас сперва познакомить с Ермолаем.
Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил и зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему, в веселый час, разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка: один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороху и для дроби, другой сзади – для дичи; хлопки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому неистощимой, шапки. Он бы легко мог на деньги, вырученные им за проданную дичь, купить себе патронташ и суму, но ни разу даже не подумал о подобной покупке и продолжал заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумление зрителей искусством, с каким он избегал опасности просыпать или смешать дробь и порох. Ружье у него было одноствольное, с кремнем, одаренное притом скверной привычкой жестоко «отдавать», отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлее левой. Как он попадал из этого ружья – и хитрому человеку не придумать, но попадал. Была у него и легавая собака, по прозванью Валетка, преудивительное созданье. Ермолай никогда ее не кормил. «Стану я пса кормить, – рассуждал он, – притом пес – животное умное, сам найдет себе пропитанье». И действительно: хотя Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил, и долго жил; даже, несмотря на свое бедственное положенье, ни разу не пропадал и не изъявлял желанья покинуть своего хозяина. Раз как-то, в юные годы, он отлучился на два дня, увлеченный любовью; но эта дурь скоро с него соскочила. Замечательнейшим свойством Валетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете… Если б речь шла не о собаке, я бы употребил слово: разочарованность. Он обыкновенно сидел, подвернувши под себя свой куцый хвост, хмурился, вздрагивал по временам и никогда не улыбался. (Известно, что собаки имеют способность улыбаться, и даже очень мило улыбаться.) Он был крайне безобразен, и ни один праздный дворовый человек не упускал случая ядовито насмеяться над его наружностью; но все эти насмешки и даже удары Валетка переносил с удивительным хладнокровием. Особенное удовольствие доставлял он поварам, которые тотчас отрывались от дела и с криком и бранью пускались за ним в погоню, когда он, по слабости, свойственной не одним собакам, просовывал свое голодное рыло в полурастворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной кухни. На охоте он отличался неутомимостью и чутье имел порядочное; но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслажденьем всего, до последней косточки, где-нибудь в прохладной тени, под зеленым кустом, в почтительном отдалении от Ермолая, ругавшегося на всех известных и неизвестных диалектах.
Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещику старинного покроя. Помещики старинного покроя не любят «куликов» и придерживаются домашней живности. Разве только в необыкновенных случаях, как-то: во дни рождений, именин и выборов, повара старинных помещиков приступают к изготовлению долгоносых птиц и, войдя в азарт, свойственный русскому человеку, когда он сам хорошенько не знает, что делает, придумывают к ним такие мудреные приправы, что гости большей частью с любопытством и вниманием рассматривают поданные яства, но отведать их никак не решаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пары две тетеревов и куропаток, а впрочем, позволялось ему жить, где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека ни на какую работу не годного – «лядащаго», как говорится у нас в Орле. Пороху и дроби, разумеется, ему не выдавали, следуя точно тем же правилам, в силу которых и он не кормил своей собаки. Ермолай был человек престранного рода: беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду; сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался с боку на бок – и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст пятьдесят в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям: ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сиживал не раз взаперти на чердаках, в погребах и сараях, лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний, бывал бит сильно и долго – и все-таки, через несколько времени, возвращался домой, одетый, с ружьем и с собакой. Нельзя было назвать его человеком веселым, хотя он почти всегда находился в довольно изрядном расположении духа; он вообще смотрел чудаком. Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой, но и то недолго: встанет, бывало, и пойдет. «Да куда ты, черт, идешь? Ночь на дворе». – «А в Чаплино». – «Да на что тебе тащиться в Чаплино, за десять верст?» – «А там у Софрона-мужичка переночевать». – «Да ночуй здесь». – «Нет уж, нельзя». И пойдет Ермолай с своим Валеткой в темную ночь, через кусты да водомоины, а мужичок Софрон его, пожалуй, к себе на двор не пустит, да еще, чего доброго, шею ему намнет: не беспокой-де честных людей. Зато никто не мог сравниться с Ермолаем в искусстве ловить весной, в полую воду, рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с «лешевой дудкой», с «кукушкиным перелетом»… Одного он не умел: дрессировать собак; терпенья недоставало. Была у него и жена. Он ходил к ней раз в неделю. Жила она в дрянной, полуразвалившейся избенке, перебивалась кое-как и кое-чем, никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра, и вообще терпела участь горькую. Ермолай, этот беззаботный и добродушный человек, обходился с ней жестоко и грубо, принимал у себя дома грозный и суровый вид – и бедная его жена не знала, чем угодить ему, трепетала от его взгляда, на последнюю копейку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своим тулупом, когда он, величественно развалясь на печи, засыпал богатырским сном. Мне самому не раз случалось подмечать в нем невольные проявления какой-то угрюмой свирепости: мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома; а на чужой стороне превращался опять в «Ермолку», как его прозвали на сто верст кругом и как он сам себя называл подчас. Последний дворовый человек чувствовал свое превосходство над этим бродягой и, может быть, потому именно и обращался с ним дружелюбно; а мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле, но потом отпускали с Богом и, раз узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры… Этого-то человека я взял к себе в охотники, и с ним-то я отправился на тягу в большую березовую рощу, на берегу Исты.
У многих русских рек, наподобие Волги, один берег горный, другой луговой; у Исты тоже. Эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо, ползет змеей, ни на полверсты не течет прямо, и в ином месте, с высоты крутого холма, видна верст на десять с своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окруженными ракитником и густыми садами. Рыбы в Исте бездна, особливо головлей (мужики достают их в жар из-под кустов руками). Маленькие кулички-песочники со свистом перелетывают вдоль каменистых берегов, испещренных холодными и светлыми ключами; дикие утки выплывают на середину прудов и осторожно озираются; цапли торчат в тени, в заливах, под обрывами… Мы стояли на тяге около часу, убили две пары вальдшнепов и, желая до восхода солнца опять попытать нашего счастия (на тягу можно также ходить поутру), решились переночевать в ближайшей мельнице. Мы вышли из рощи, спустились с холма. Река катила темно-синие волны; воздух густел, отягченный ночной влагой. Мы постучались в ворота. Собаки залились на дворе. «Кто тут?» – раздался сиплый и заспанный голос. «Охотники: пусти переночевать». Ответа не было. «Мы заплатим». – «Пойду скажу хозяину… Цыц, проклятые!.. Эк на вас погибели нет!» Мы слышали, как работник вошел в избу; он скоро вернулся к воротам. «Нет, говорит, хозяин не велит пускать». – «Отчего не велит?» – «Да боится; вы охотники; чего доброго, мельницу зажжете; вишь, у вас снаряды какие». – «Да что за вздор!» – «У нас и так в запрошлом году мельница сгорела: прасолы переночевали, да, знать, как-нибудь и подожгли». – «Да как же, брат, не ночевать же нам на дворе!» – «Как знаете…» Он ушел, стуча сапогами.
Ермолай посулил ему разных неприятностей. «Пойдемте в деревню», – произнес он, наконец, со вздохом. Но до деревни было версты две… «Ночуем здесь, – сказал я, – на дворе; ночь теплая; мельник за деньги нам вышлет соломы». Ермолай беспрекословно согласился. Мы опять стали стучаться. «Да что вам надобно? – раздался снова голос работника, – сказано, нельзя». Мы растолковали ему, чего мы хотели. Он пошел посоветоваться с хозяином и вместе с ним вернулся. Калитка заскрипела. Появился мельник, человек высокого роста, с жирным лицом, бычачьим затылком, круглым и большим животом. Он согласился на мое предложение. В ста шагах от мельницы находился маленький, со всех сторон открытый, навес. Нам принесли туда соломы, сена; работник на траве подле реки наставил самовар и, присев на корточки, начал усердно дуть в трубу… Уголья, вспыхивая, ярко освещали его молодое лицо. Мельник побежал будить жену, предложил мне сам, наконец, переночевать в избе; но я предпочел остаться на открытом воздухе. Мельничиха принесла нам молока, яиц, картофелю, хлеба. Скоро закипел самовар, и мы принялись пить чай. С реки поднимались пары, ветру не было; кругом кричали коростели; около мельничных колес раздавались слабые звуки: то капли падали с лопат, сочилась вода сквозь засовы плотины. Мы разложили небольшой огонек. Пока Ермолай жарил в золе картофель, я успел задремать… Легкий сдержанный шепот разбудил меня. Я поднял голову: перед огнем, на опрокинутой кадке, сидела мельничиха и разговаривала с моим охотником. Я уже прежде, по ее платью, телодвижениям и выговору, узнал в ней дворовую женщину – не бабу и не мещанку; но только теперь я рассмотрел хорошенько ее черты. Ей было на вид лет тридцать; худое и бледное лицо еще хранило следы красоты замечательной; особенно понравились мне глаза, большие и грустные. Она оперла локти на колени, положила лицо на руки. Ермолай сидел ко мне спиною и подкладывал щепки в огонь.
– В Желтухиной опять падеж, – говорила мельничиха, – у отца Ивана обе коровы свалились… Господи помилуй!
– А что ваши свиньи? – спросил, помолчав, Ермолай.
– Живут.
– Хоть бы поросеночка мне подарили.
Мельничиха помолчала, потом вздохнула.
– С кем вы это? – спросила она.
– С барином – с костомаровским.
Ермолай бросил несколько еловых веток на огонь; ветки тотчас дружно затрещали, густой белый дым повалил ему прямо в лицо.
– Чего твой муж нас в избу не пустил?
– Боится.
– Вишь, толстый, брюхач… Голубушка, Арина Тимофеевна, вынеси мне стаканчик винца!
Мельничиха встала и исчезла во мраке. Ермолай запел вполголоса:
Как к любезной я ходил,
Все сапожки обносил…
Арина вернулась с небольшим графинчиком и стаканом. Ермолай привстал, перекрестился и выпил духом. «Люблю!» – прибавил он.
Мельничиха опять присела на кадку.
– А что, Арина Тимофеевна, чай, все хвораешь?
– Хвораю.
– Что так?
– Кашель по ночам мучит.
– Барин-то, кажется, заснул, – промолвил Ермолай после небольшого молчания. – Ты к лекарю не ходи, Арина: хуже будет.
– Я и то не хожу.
– А ко мне зайди погостить.
Арина потупила голову.
– Я свою-то, жену-то, прогоню на тот случай, – продолжал Ермолай… – Право-ся.
– Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петрович: видите, картофель испекся.
– А пусть дрыхнет, – равнодушно заметил мой верный слуга, – набегался, так и спит.
Я заворочался на сене. Ермолай встал и подошел ко мне.
– Картофель готов-с, извольте кушать.
Я вышел из-под навеса; мельничиха поднялась с кадки и хотела уйти. Я заговорил с нею.
– Давно вы эту мельницу сняли?
– Ну, полно, полно, балагур. Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю, небось… А ты, батюшка, не гневись: дитятко, видишь, малое, разуму не успело набраться.
Федя покачал головой…
– Дома Хорь? – раздался за дверью знакомый голос, и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика.
Я в этот день пошел на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного и следующие три дня провел у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек… Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь; например: он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же – к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился; например: из его рассказов узнал я, что каждое лето, перед покосом, появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет рубль двадцать пять копеек – полтора рубля ассигнациями; в долг – три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стало быть заплатить есть чем; он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние; их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их же пользы, поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». Такой «орел» получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но, в противность благородной птице, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело: напротив, «орел» прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближенье и крадутся к нему навстречу. Второпях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает «орлу» не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную паневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности «замашки», – важное распространение и усовершенствование промышленности «орлов»! Но зато мужики, в свою очередь, навострились и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении «орла» быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они ее точно продают, – не в городе, в город надо самим тащиться, а приезжим торгашам, которые, за неимением безмена, считают пуд в сорок горстей – а вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно, когда он «усердствует»! – Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не все рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось… Калиныч от него не отставал; но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал все по порядку: «Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка, как же?..» – «А! ах, Господи, твоя воля!» – восклицал Калиныч во время моего рассказа; Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо – это порядок». Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убежденье, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, – убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя, он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо – то ему и нравится, что разумно – того ему и подавай, а откуда оно идет, – ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положенья, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь, как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положенье. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познанья были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел; Калиныч – умел. «Этому шалопаю грамота далась, – заметил Хорь, – у него и пчелы отродясь не мерли». – «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает». – «А другие?» – «Другие не знают». – «А что?» Старик не отвечал и переменил разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе Божием. Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин! не бьешь ты жены, не бьешь молодой…» Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря; но он спокойно возразил мне, что «охота-де вам такими… пустяками заниматься, – пускай бабы ссорятся… Их что разнимать – то хуже, да и рук марать не стоит». Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая: «Сюды, сюды, собачка!» – и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и «лаялась», как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и, по его приказанию, убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорем, когда дело доходило до г-на Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», – говорил Калиныч. «А что ж он тебе сапогов не сошьет?» – возражал тот. «Эка, сапоги!.. на что мне сапоги? Я мужик…» – «Да вот и я мужик, а вишь…» При этом слове Хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат!» – отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапти дал: ведь ты с ним на охоту ходишь; чай, что день, то лапти». – «Он мне дает на лапти». – «Да, в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно.
Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню: «Доля ты моя, доля!» Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю… Зато в другое время не было человека деятельнее его: вечно над чем-нибудь копается – телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо-де избе жильем пахнуть».
– Посмотри-ка, – возразил я ему, – как у Калиныча на пасеке чисто.
– Пчелы бы жить не стали, батюшка, – сказал он со вздохом.
«А что, – спросил он меня в другой раз, – у тебя своя вотчина есть?» – «Есть». – «Далеко отсюда?» – «Верст сто». – «Что же ты, батюшка, живешь в своей вотчине?» – «Живу». – «А больше, чай, ружьем пробавляешься?» – «Признаться, да». – «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себе на здоровье тетеревов, да старосту меняй почаще».
На четвертый день, вечером, г. Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров, – сказал я… – Прощай, Федя». – «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали; заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», – заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдет, – возразил мне Калиныч, – утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел да глядел на зарю…
На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина.
Ермолай и мельничиха
Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на «тягу»… Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа.
За четверть часа до захождения солнца, весной, вы входите в рощу с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло; воздух чист и прозрачен; птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда… вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых, веток к неподвижным, засыпающим верхушкам… Вот и самые верхушки потускнели, румяное небо синеет. Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают – не все вдруг – по породам: вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу все темней да темней. Деревья сливаются в большие, чернеющие массы; на синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятлы одни еще сонливо посвистывают… Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданьем, и вдруг – но одни охотники поймут меня, – вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл – и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу.
Вот что значит «стоять на тяге».
Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу; но извините, господа: я должен вас сперва познакомить с Ермолаем.
Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил и зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему, в веселый час, разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка: один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороху и для дроби, другой сзади – для дичи; хлопки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому неистощимой, шапки. Он бы легко мог на деньги, вырученные им за проданную дичь, купить себе патронташ и суму, но ни разу даже не подумал о подобной покупке и продолжал заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумление зрителей искусством, с каким он избегал опасности просыпать или смешать дробь и порох. Ружье у него было одноствольное, с кремнем, одаренное притом скверной привычкой жестоко «отдавать», отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлее левой. Как он попадал из этого ружья – и хитрому человеку не придумать, но попадал. Была у него и легавая собака, по прозванью Валетка, преудивительное созданье. Ермолай никогда ее не кормил. «Стану я пса кормить, – рассуждал он, – притом пес – животное умное, сам найдет себе пропитанье». И действительно: хотя Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил, и долго жил; даже, несмотря на свое бедственное положенье, ни разу не пропадал и не изъявлял желанья покинуть своего хозяина. Раз как-то, в юные годы, он отлучился на два дня, увлеченный любовью; но эта дурь скоро с него соскочила. Замечательнейшим свойством Валетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете… Если б речь шла не о собаке, я бы употребил слово: разочарованность. Он обыкновенно сидел, подвернувши под себя свой куцый хвост, хмурился, вздрагивал по временам и никогда не улыбался. (Известно, что собаки имеют способность улыбаться, и даже очень мило улыбаться.) Он был крайне безобразен, и ни один праздный дворовый человек не упускал случая ядовито насмеяться над его наружностью; но все эти насмешки и даже удары Валетка переносил с удивительным хладнокровием. Особенное удовольствие доставлял он поварам, которые тотчас отрывались от дела и с криком и бранью пускались за ним в погоню, когда он, по слабости, свойственной не одним собакам, просовывал свое голодное рыло в полурастворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной кухни. На охоте он отличался неутомимостью и чутье имел порядочное; но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслажденьем всего, до последней косточки, где-нибудь в прохладной тени, под зеленым кустом, в почтительном отдалении от Ермолая, ругавшегося на всех известных и неизвестных диалектах.
Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещику старинного покроя. Помещики старинного покроя не любят «куликов» и придерживаются домашней живности. Разве только в необыкновенных случаях, как-то: во дни рождений, именин и выборов, повара старинных помещиков приступают к изготовлению долгоносых птиц и, войдя в азарт, свойственный русскому человеку, когда он сам хорошенько не знает, что делает, придумывают к ним такие мудреные приправы, что гости большей частью с любопытством и вниманием рассматривают поданные яства, но отведать их никак не решаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пары две тетеревов и куропаток, а впрочем, позволялось ему жить, где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека ни на какую работу не годного – «лядащаго», как говорится у нас в Орле. Пороху и дроби, разумеется, ему не выдавали, следуя точно тем же правилам, в силу которых и он не кормил своей собаки. Ермолай был человек престранного рода: беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду; сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался с боку на бок – и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст пятьдесят в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям: ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сиживал не раз взаперти на чердаках, в погребах и сараях, лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний, бывал бит сильно и долго – и все-таки, через несколько времени, возвращался домой, одетый, с ружьем и с собакой. Нельзя было назвать его человеком веселым, хотя он почти всегда находился в довольно изрядном расположении духа; он вообще смотрел чудаком. Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой, но и то недолго: встанет, бывало, и пойдет. «Да куда ты, черт, идешь? Ночь на дворе». – «А в Чаплино». – «Да на что тебе тащиться в Чаплино, за десять верст?» – «А там у Софрона-мужичка переночевать». – «Да ночуй здесь». – «Нет уж, нельзя». И пойдет Ермолай с своим Валеткой в темную ночь, через кусты да водомоины, а мужичок Софрон его, пожалуй, к себе на двор не пустит, да еще, чего доброго, шею ему намнет: не беспокой-де честных людей. Зато никто не мог сравниться с Ермолаем в искусстве ловить весной, в полую воду, рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с «лешевой дудкой», с «кукушкиным перелетом»… Одного он не умел: дрессировать собак; терпенья недоставало. Была у него и жена. Он ходил к ней раз в неделю. Жила она в дрянной, полуразвалившейся избенке, перебивалась кое-как и кое-чем, никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра, и вообще терпела участь горькую. Ермолай, этот беззаботный и добродушный человек, обходился с ней жестоко и грубо, принимал у себя дома грозный и суровый вид – и бедная его жена не знала, чем угодить ему, трепетала от его взгляда, на последнюю копейку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своим тулупом, когда он, величественно развалясь на печи, засыпал богатырским сном. Мне самому не раз случалось подмечать в нем невольные проявления какой-то угрюмой свирепости: мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома; а на чужой стороне превращался опять в «Ермолку», как его прозвали на сто верст кругом и как он сам себя называл подчас. Последний дворовый человек чувствовал свое превосходство над этим бродягой и, может быть, потому именно и обращался с ним дружелюбно; а мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле, но потом отпускали с Богом и, раз узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры… Этого-то человека я взял к себе в охотники, и с ним-то я отправился на тягу в большую березовую рощу, на берегу Исты.
У многих русских рек, наподобие Волги, один берег горный, другой луговой; у Исты тоже. Эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо, ползет змеей, ни на полверсты не течет прямо, и в ином месте, с высоты крутого холма, видна верст на десять с своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окруженными ракитником и густыми садами. Рыбы в Исте бездна, особливо головлей (мужики достают их в жар из-под кустов руками). Маленькие кулички-песочники со свистом перелетывают вдоль каменистых берегов, испещренных холодными и светлыми ключами; дикие утки выплывают на середину прудов и осторожно озираются; цапли торчат в тени, в заливах, под обрывами… Мы стояли на тяге около часу, убили две пары вальдшнепов и, желая до восхода солнца опять попытать нашего счастия (на тягу можно также ходить поутру), решились переночевать в ближайшей мельнице. Мы вышли из рощи, спустились с холма. Река катила темно-синие волны; воздух густел, отягченный ночной влагой. Мы постучались в ворота. Собаки залились на дворе. «Кто тут?» – раздался сиплый и заспанный голос. «Охотники: пусти переночевать». Ответа не было. «Мы заплатим». – «Пойду скажу хозяину… Цыц, проклятые!.. Эк на вас погибели нет!» Мы слышали, как работник вошел в избу; он скоро вернулся к воротам. «Нет, говорит, хозяин не велит пускать». – «Отчего не велит?» – «Да боится; вы охотники; чего доброго, мельницу зажжете; вишь, у вас снаряды какие». – «Да что за вздор!» – «У нас и так в запрошлом году мельница сгорела: прасолы переночевали, да, знать, как-нибудь и подожгли». – «Да как же, брат, не ночевать же нам на дворе!» – «Как знаете…» Он ушел, стуча сапогами.
Ермолай посулил ему разных неприятностей. «Пойдемте в деревню», – произнес он, наконец, со вздохом. Но до деревни было версты две… «Ночуем здесь, – сказал я, – на дворе; ночь теплая; мельник за деньги нам вышлет соломы». Ермолай беспрекословно согласился. Мы опять стали стучаться. «Да что вам надобно? – раздался снова голос работника, – сказано, нельзя». Мы растолковали ему, чего мы хотели. Он пошел посоветоваться с хозяином и вместе с ним вернулся. Калитка заскрипела. Появился мельник, человек высокого роста, с жирным лицом, бычачьим затылком, круглым и большим животом. Он согласился на мое предложение. В ста шагах от мельницы находился маленький, со всех сторон открытый, навес. Нам принесли туда соломы, сена; работник на траве подле реки наставил самовар и, присев на корточки, начал усердно дуть в трубу… Уголья, вспыхивая, ярко освещали его молодое лицо. Мельник побежал будить жену, предложил мне сам, наконец, переночевать в избе; но я предпочел остаться на открытом воздухе. Мельничиха принесла нам молока, яиц, картофелю, хлеба. Скоро закипел самовар, и мы принялись пить чай. С реки поднимались пары, ветру не было; кругом кричали коростели; около мельничных колес раздавались слабые звуки: то капли падали с лопат, сочилась вода сквозь засовы плотины. Мы разложили небольшой огонек. Пока Ермолай жарил в золе картофель, я успел задремать… Легкий сдержанный шепот разбудил меня. Я поднял голову: перед огнем, на опрокинутой кадке, сидела мельничиха и разговаривала с моим охотником. Я уже прежде, по ее платью, телодвижениям и выговору, узнал в ней дворовую женщину – не бабу и не мещанку; но только теперь я рассмотрел хорошенько ее черты. Ей было на вид лет тридцать; худое и бледное лицо еще хранило следы красоты замечательной; особенно понравились мне глаза, большие и грустные. Она оперла локти на колени, положила лицо на руки. Ермолай сидел ко мне спиною и подкладывал щепки в огонь.
– В Желтухиной опять падеж, – говорила мельничиха, – у отца Ивана обе коровы свалились… Господи помилуй!
– А что ваши свиньи? – спросил, помолчав, Ермолай.
– Живут.
– Хоть бы поросеночка мне подарили.
Мельничиха помолчала, потом вздохнула.
– С кем вы это? – спросила она.
– С барином – с костомаровским.
Ермолай бросил несколько еловых веток на огонь; ветки тотчас дружно затрещали, густой белый дым повалил ему прямо в лицо.
– Чего твой муж нас в избу не пустил?
– Боится.
– Вишь, толстый, брюхач… Голубушка, Арина Тимофеевна, вынеси мне стаканчик винца!
Мельничиха встала и исчезла во мраке. Ермолай запел вполголоса:
Как к любезной я ходил,
Все сапожки обносил…
Арина вернулась с небольшим графинчиком и стаканом. Ермолай привстал, перекрестился и выпил духом. «Люблю!» – прибавил он.
Мельничиха опять присела на кадку.
– А что, Арина Тимофеевна, чай, все хвораешь?
– Хвораю.
– Что так?
– Кашель по ночам мучит.
– Барин-то, кажется, заснул, – промолвил Ермолай после небольшого молчания. – Ты к лекарю не ходи, Арина: хуже будет.
– Я и то не хожу.
– А ко мне зайди погостить.
Арина потупила голову.
– Я свою-то, жену-то, прогоню на тот случай, – продолжал Ермолай… – Право-ся.
– Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петрович: видите, картофель испекся.
– А пусть дрыхнет, – равнодушно заметил мой верный слуга, – набегался, так и спит.
Я заворочался на сене. Ермолай встал и подошел ко мне.
– Картофель готов-с, извольте кушать.
Я вышел из-под навеса; мельничиха поднялась с кадки и хотела уйти. Я заговорил с нею.
– Давно вы эту мельницу сняли?